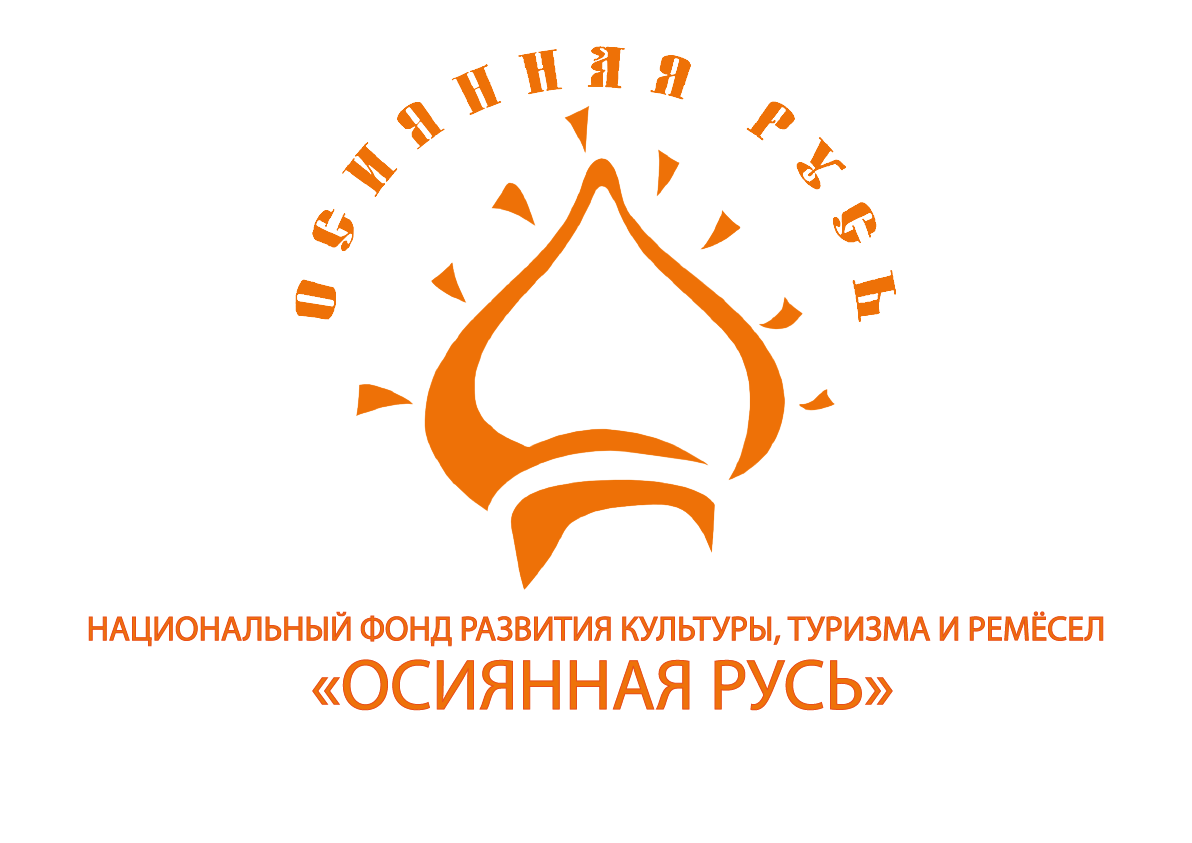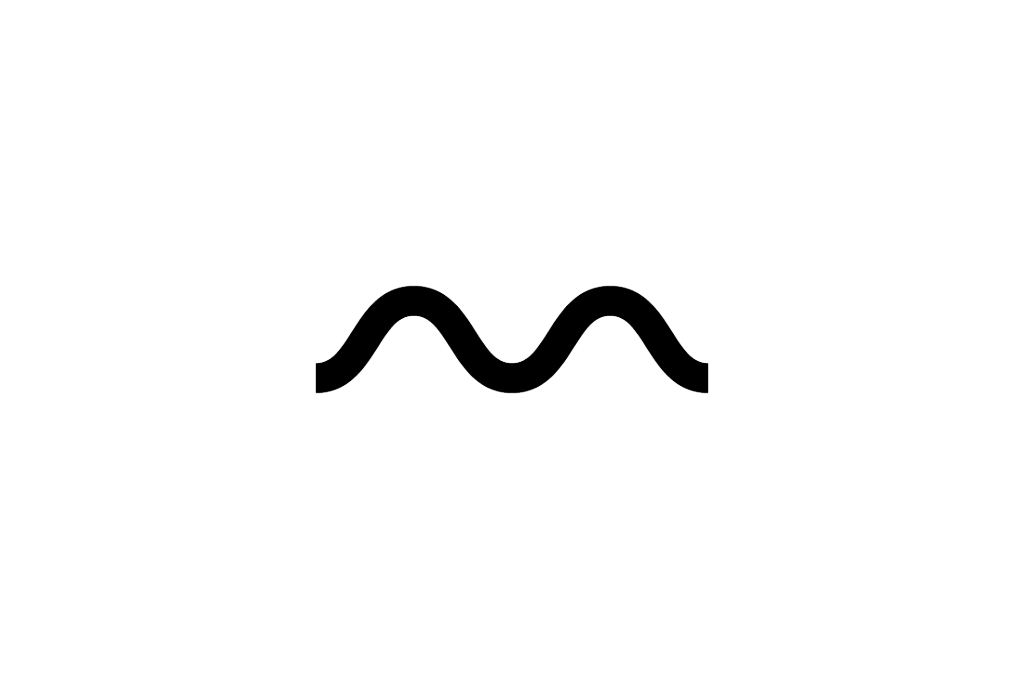Дарин Дмитрий Александрович,
член Союза писателей России, ЛНР и ДНР,
член Союза журналистов России,
действительный член Петровской академии наук и искусств, д.э.н.
Книга «Есенин. Обещая встречу впереди».
Поминальное чтиво‑2 или урок контекстной манипуляции.
Прилепился к Есенину, что ж,
Не напасть, не беда и не горе,
Как просохшая глина с подошв
Сам собою отлепится вскоре.
Эпиграмма на книгу З. Прилепина серии ЖЗЛ «Есенин. Обещая встречу впереди».
О русском национальном поэте Сергее Есенине пишут все, кто может, и, что гораздо хуже, кто хочет. Даже серия «ЖЗЛ» известного издательства «Молодая Гвардия» не ограничилась ставшим уже классическим трудом отца и сына Куняевых «Сергей Есенин», увидевшего свет в 1997 году. Неужели появились новые документы, воспоминания или факты из биографии великой русской «божьей дудки», что возникла нужда во второй книге — модного полудонбасского писателя Захара Прилепина?
Увы, причины появления этого объёмного (в 2 раза объёмней куняевского, более 1000 страниц) труда — не факты, а новые, востребованные «развитой демократией» интерпретации.
Чувство «заказа» возникло у меня задолго до прочтения самой книги Прилепина — после его интервью, где тот со свойственной ему безаппеляционностью заявил, что «у него по всем этим поводам [Есенин и имажинисты, Есенин и чекисты, Есенин и алкоголь, Есенин и его отношение к большевикам, Есенин и его антисемитизм и т.п. — ДД,] есть собственное мнение, оно 100-процентное (!), как не знаю что [как бетон, наверное — Д.Д.] что он «докажет правду» (творческая встреча 9 августа 2018 г. на Воздвиженке «Жизнь и строфы Анатолия Мариенгофа»). В другом интервью (Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова, 25 января 2019 г.) новоиспечённый есениновед называет три биографии Есенина, по его мнению, «образцового толка» — Станислава и Сергея Куняевых, Олега Лекманова и Михаила Свердлова, а также Аллы Марченко. У Прилепина при этом «больше документации [по Есенину — Д.Д.], чем у моих предшественников», что даёт ему «фору» и основание на претензию «поставить все точки над «и». В каком-то другом интервью эта претензия звучит чётче — «закрыть все вопросы по Есенину». Ну, давайте посмотрим.
Для начала взглянем на «образцы»:
Олег Лекманов, Михаил Свердлов. «Сергей Есенин: биография» (предисловие ко 2‑му изданию):
За редкими исключениями, есениноведы не могут или не хотят дистанцироваться от Есенина: они стремятся, вольно или невольно, не столько к исследованию биографии и творчества, сколько к защите и восхвалению «рязанского соловья».
В качестве выразительного примера приведём здесь большую сборную цитату из предисловия к замечательному коллективному труду — новейшей многотомной «Летописи жизни и творчества С.А. Есенина». Предисловие это написано главным редактором не только «Летописи…», но и Полного академического собрания сочинений поэта: «Гениальный поэт — всегда Личность. Его душа всегда возвышенно-крылата, чутка к страданию людскому, всегда человечна. По своей творческой сути, по своим убеждениям и идеям они, великие мыслители и революционеры духа, постоянно и настойчиво вслушиваются в биение народного сердца, в могучее дыхание родины, чутко улавливая раскаты новых революционных бурь и потрясений. Это незыблемый закон искусства <…> Когда читаешь и перечитываешь Есенина, включая его ранние стихи, где всё — правда, озарённая и печальная, всё — жизнь, радостная и трагическая; поэмы и стихи, в которых предельно, исповедально обнажена душа художника, — всё очевиднее становится их резкая несовместимость с различного рода «романами без вранья» <…> Словно Антей, каждый раз, когда Есенину было особенно трудно, припадал он душой и сердцем к родной рязанской земле, вновь обретая животворную нравственную силу и энергию для своих бессмертных стихов и поэм о России <…> Наполненная любовью к людям, к Человеку, к красоте родной земли, проникнутая душевностью, добротой, чувством постоянного беспокойства за судьбу не только своих соотечественников, но и народов других стран и наций, гуманистическая поэзия Есенина активно живёт и действует в наши дни, помогая сохранению и упрочению мира во всем мире»[1].
В нарушение сложившейся традиции, авторы предлежащего жизнеописания Сергея Есенина не ставили своей целью во что бы то ни стало обелить (или очернить) поэта в глазах читателя. Нам хотелось по возможности беспристрастно рассказать о Есенине, передоверив восторги и инвективы мемуаристам и современным поэту критикам, чьи голоса звучат почти на каждой странице этой книги [выделено мной — Д.Д.].
Ну вот вам примеры «беспристрастности»:
1.
— Лекманов: «Вспоминает Екатерина Есенина: «Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, а ниже повесил остальные портреты«. Справедливости ради следует, впрочем, отметить, что похвальные листы получили все ученики, окончившие четыре класса».
— Е.А. Есенина: «Неожиданно приехал отец из Москвы, привёз гостинцев и две красивые рамки со стеклом. Одну для похвального листа, другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, ниже повесил оставшиеся портреты. Когда пришёл Сергей, отец с улыбкой показал ему свою работу. Сергей тоже улыбнулся в ответ».
С.А. Есенин в воспоминаниях современников, в двух томах. Изд.: Художественная литература, М., 1986.
2.
— Лекманов: «С рассказами о Есенине как о неизменном вожаке деревенских детей контрастирует небольшой фрагмент из воспоминаний Н. Сардановского: «Тихий был мальчик, застенчивый, кличка ему была Серёга-монах»[27]. А легенду о необыкновенно рано пробудившихся в мальчике творческих способностях и сознательности отнюдь не подтверждает следующий печальный факт из биографии двенадцатилетнего Серёги-монаха: в третьем классе училища он за озорство просидел два года (1907‑й и 1908‑й)».
Сноска 27
Сергей Есенин в стихах и в жизни… С. 50. Ср. в воспоминаниях младшей сестры поэта, Екатерины: «Наш дедушка, Никита Осипович Есенин, женился очень поздно, в 28 лет, за что получил на селе прозвище „Монах“ <…> Я до школы даже не слышала, что мы Есенины. Сергей прозывался Монах, я и Шура — Монашки».
— Е.А. Есенина: «В молодости наш дедушка Никита Осипович Есенин собирался пойти в монахи, но до 28 лет никак не мог собраться, а в 28 лет женился на 16-летней девушке. За это намерение в селе прозвали его „монах“, а бабушку, его молодую жену, — „монашка“».
Е.А. Есенина. В Константинове. Альманах «Литературная Рязань», 1957, кн. 2.
Обратите внимание — истинное объяснение детского прозвища «Монах» даётся в сноске, а не как основное, чтобы вселить сомнение в предводительстве Серёжей Есениным мальчишескими ватагами. Подспудно вселяется сомнение в правдивость всем известных есенинских строчек из стихотворения «Всё живое особой метой…» (1922 г.)
Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.
Мальчишескую удаль зато подтверждает «печальный [выделено мной — Д.Д.] факт из биографии двенадцатилетнего Серёги-монаха: в третьем классе училища он за озорство просидел два года». Но почему Лекманов считает, что этот «печальный факт» не подтверждает «легенду о необыкновенно рано пробудившихся в мальчике творческих способностях и сознательности»? Заметьте, чтобы опровергнуть легенду о творческих способностях юного Есенина, автор привязывает сюда и «сознательность», которая никакого отношения к творчеству не имеет, скорее, наоборот. Из примерных мальчиков редко выходят стоящие поэты.
Зато вспоминает мать поэта Татьяна Фёдоровна Есенина: «Читал он очень много всего. Жалко мне его было, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить ему огонь, чтоб он лёг, уснул, но он на это не обращал внимания. Он опять зажигал и читал. Дочитается до такой степени, что рассветёт и не спавши он поедет учиться опять».
Сам же Сардановский свидетельствует: «Примерно спустя год после нашего знакомства (то есть, когда Есенину было 12 лет), Сергей показал мне свои стихотворения. <…> Помнится, тема всех стихотворений была — описание сельской природы».
12 лет вполне рано для творческих способностей.
Да и насчёт низкой сознательности школьника Есенина — друг и однокашник Сергея по сельской школе Клавдий Воронцов показывает: «Среди учеников он всегда отличался способностями и был в числе первых учеников. Когда кто-нибудь не выучит урока, учитель оставлял его без обеда готовить уроки, а проверку проводить поручал Есенину.
Он верховодил среди ребятишек и в неучебное время. Без него ни одна драка не обойдётся, хотя и ему попадало, но и от него вдвое».
Поэтому в прилежности в учёбе Есенину не откажешь. А что там произошло в мае 1907 года — драка или какой иное озорство, из-за чего ученик Константиновского земского 4‑х годичного училища был оставлен на второй год — Бог весть.
Клавдий Воронцов: «Увлекаясь разными играми и драками, он в то же время больше интересовался книгами. В последнем классе сельской школы была у него масса прочитанных книг. Если он у кого-нибудь увидит ещё не читанную книгу, то никогда не отступится. Обманет, так обманет, за конфеты — так за конфеты, но всё же выманит».
Лекманов цитирует только последнюю фразу: «Вероятно, тогда же Есенин страстно полюбил читать. Из мемуаров есенинского друга детства К. Воронцова: «Если он у кого-нибудь увидит ещё не читанную им книгу, то никогда не отступится. Обманет — так обманет, за конфеты — так за конфеты, но все же — выманит».
К. Воронцов: Во время учёбы во второклассной школе Сергей стал сочинять стихи, но не публиковал их. Мне в то время стихи его нравились, и я просил его, чтобы он больше писал. Помню, например, такое стихотворение:
Милый друг, не рыдай,
Не роняя слёз из глаз
И душой не страдай:
Близок счастья тот час…
И т.д.
Стихов в то время у него было много. Они до настоящего времени не печатались».
Это только детство и ранняя юность поэта — на всём протяжении книги о Есенине таких подмен, смещений акцентов, натяжек и фальсификаций с лихвой. Подробнее лучше прочитать у Натальи Шубниковой-Гусевой в статье «И это — биография?». «Литературная газета» № 5 (6209) (4.02.2009).
Другая «образцовая» работа с самого начала ставит перед читателем дилемму: либо согласен, либо функционально неграмотен:
Алла Марченко: «…если они, конечно, функционально грамотны, т.е. способны не заучивать с голоса чужого выводы, а следить за ходом авторской мысли…»
Противники официальной версии смерти Есенина оцениваются во всём блеске толерантного либерализма: «особенно дремучим и мрачным выглядит участок, приватизированный патриотами» (с. 12), «стайки шарлатанов да толпы невежд, к умственным усилиям не приученных» (с. 26), «материал с самыми дремучими вымыслами» (с. 26), «беспрецедентное по безграмотности сочинение» (с. 26), «неизлечимый дилетантизм, а то и прямое мракобесие» (с. 27), «неистовые мстители». А. Марченко. «Сергей Есенин: путь и беспутье».
«Если бы в двадцатые годы хоть кто-нибудь усомнился в том, что Есенин повесился, а не “найден повешенным”, мне бы на это хотя бы намекнул Илья Ильич Шнейдер, коммерческий директор московской школы Айседоры Дункан» — то есть молчание какого-то Шнейдера для неё главное доказательство отсутствия сомнений в самоубийстве поэта. Подумать только. А. Марченко «Сергей Есенин. Русская душа».
Часто и не к месту упоминаемый З. Прилепиным Павел Басинский (известный критик и писатель, член жюри литературных премий им. А. Солженицына и «Ясная Поляна») так высказался о книге А. Марченко «Сергей Есенин. Русская душа»:
«Мне по душе пафос этой книги: с Есениным надо быть осторожнее. Осторожнее — не в смысле нежнее, а в смысле подразумеваемых за демифологизацией русской поэтической иконы нелицеприятностей — болезненного тщеславия, сервильности к власти и т.п.».
Точно по Г. Федотову, определившему русскую интеллигенцию как «группу, движение, традицию, объединяемых идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей». И самая беспочвенная из них — идея развенчания русского гения, так болезненно натужно предпринимаемое «литературной интеллигенцией». Именно этот путь, в противоположность всем многочисленным устным заверениям о любви к Есенину с детства, на самом деле выбрал «есениновед» З. Прилепин.
Чтобы наглядно произвести разоблачение всех фокусов книги г‑на Прилепина, пришлось бы написать такую же по объёму. Что-то типа «Анти-Дюринга». Но поскольку, всё действо сгущается, как и положено, к финалу представления, приоткроем занавес только над последними главами и эпилогом, хотя и в другие заглянем, но не так подробно. Как говорится, следите за руками.
Итак, глава 6‑я. «Быть настоящим, а не сводным сыном…» (1924–1925).
В те дни в разговор с журналистом «Бакинского рабочего» Евсеем Гурвичем Есенин вдруг обронит:
— Помяни мои слова: и я, и Маяковский — оба покончим с собой.
Купание в море с воспалением надкостницы, с убеждённостью, что у него туберкулёз, мёрзнувший в пальто и шарфе — и купаться?!
Раздевается и ныряет.
Потом Софья Толстая обронит (откуда-то знала):
— Он тогда хотел утопиться. (С. 747–748)
Это называется petitio principii — предвосхищение основания, то есть в доказательство приводится положение, которое само по себе требует доказательства. Эмоциональная женская фраза, о том, что он хотел утопиться, сопровождается безосновательным утверждением — откуда-то знала. Не уточняя, зная про факт купания или факт попытки самоубийства. Логическое шулерство, закреплённое чуть ниже по тексту: «Воронский описывает Есенина на другой день после купания: “Мы расстались на набережной. Небо было свинцовое. С моря дул резкий и холодный ветер, поднимая над городом едкую пыль. Немотно, как древний страж веков, стояла Девичья башня. Море скалилось, показывая белые клыки, и гул прибоя был бездушен и неуютен. Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены…”.
Воронский пишет так, словно знал о недавней попытке самоубийства».
Давайте уточним этот «суицидный» эпизод. Только в далёком 1932 году, 30 декабря, Софья Толстая запишет в дневнике (а не «обронит»): «С матерью [Т.Ф. Есениной] говорили о Сергее… Вспомнила…, как он “всё смерти искал”. В Баку в море бросался топиться, как плакал, какое лицо, глаза были у него странные». Но это женские разговоры постфактум, с чужих слов — очевидно процитированного выше А.К. Воронского, который 17 апреля 1925 года действительно был проездом в Баку (сопровождал Фрунзе) и оставил воспоминания о встрече с Есениным. Он ещё и добавил (тоже постфактум — в 1926 г.) такую «выигрышную фразу» для сторонников версии самоубийства поэта: «Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает».
Нужно сказать об этой болезни и об этом купании особо. Воспалении надкостницы, подозрении на туберкулёз (не подтвердившимся) и катаре правого лёгкого (подтвердившимся). «Это результат батумской простуды, а потом я по дурости искупался в середине апреля в море при сильном ветре. Вот и получилось. Доктора пели на разный лад. Вплоть до скоротечной чахотки» — пишет Есенин Бениславской в мае 1925 года, уверяя, что сильно не пьёт: «Я только кутнул раза три с досады за своё здоровье. Вот и всё. Хорошее дело, чтоб у меня была чахотка. Кого хошь грусть возьмёт [курсив мой — Д.Д.]». Но началась простуда ещё раньше — в декабре 1924 года, в Тифлисе. «Пальто моё Вы знаете, а в горах зверский холод. В духане мы выпили, развеселились, и я сел на автомобиль верхом около передних колёс [на капот — Д.Д.]. 18 вёрст ехал так, играл на гитаре и пел песни. Потом оказалось, я себе напел» (письмо к Г.К. Бениславской от 20.12.1924). По другим воспоминаниям — В.С. Чернявского — поэт относил начало своей тяжёлой простуды на Кавказе к весне 1925 года. И вот именно в разговоре с Чернявским (в июне 1925 г.) прозвучало то, что объясняет всё: «Нехорошо было, Володя. Лежал долго, харкал кровью. Думал, что уже больше не встану, совсем умирать собрался. И стихи писал предсмертные [курсив мой — Д.Д.], вот прочту тебе, слушай…». И прочёл «Ну, целуй меня, целуй…». И Василию Наседкину признается позже: «Праздник, Пасха, а я в больнице. Мне казалось, что я умираю. В один день я написал тогда два стихотворения: «Есть одна хорошая песня у соловушки» и «Ну, целуй меня, целуй». Ещё бы — «кого хошь грусть возьмёт». Вот откуда «он догорает». Вот откуда часовые рыдания на даче, о которых вспоминает Воронский. От желания жить, когда уверен, что вскорости умрёшь. А купание в холодной воде можно точно так же задним числом принять за попытку самоубийства, как лихая езда на радиаторе авто по ночным горам Кавказа («неслись бешено, чудом шею на поворотах не свернул»). Но, почувствовав себя лучше, уже в том же месяце Есенин со своим новым другом скульптором Степаном Эрьзей исчезает на три дня и они «появляются полные восторга [курсив мой — Д.Д.] от путешествия по Апшерону, где знакомились с жизнью местных селений». Это с ним Есенин пел частушки под окнами редакции «Бакинский рабочий», когда Чагин не выдал ему гонорар. Озорно и весело было, так же, как и в гостях у самого Эрьзи, когда Есенин не стал читать стихи, как его ни упрашивали, зато «частушки лились из него бесконечно. Он принёс собой безудержное веселье и радость [курсив мой — Д.Д.]» (воспоминания жены скульптора Е.И. Мроз). Так же задорно читал стихи и исполнял частушки на маёвке 1 мая в пригороде Баку в Балаханах, в присутствии руководства ЦК Компартии Азербайджана. Вы слышали когда-нибудь грустные частушки? Восторг, веселье и радость — вот какие чувства владели поэтом в Баку, когда здоровье не заставляло страдать. И где же здесь мрачный безысходный суицидальный синдром, так жирно намалёванный г‑м Прилепиным? А что касается воспоминаний журналиста (в то время руководителя литературного кружка при газете «Бакинский рабочий») Е.А. Гурвича по поводу реплики Есенина насчёт себя и Маяковского — «мы оба покончим с собой», это вспомнилось ему только в 1965 году — через 40 лет после встречи с поэтом Баку. И как тут можно ручаться за точность таких воспоминаний? Тем более, больше никто таких слов от поэта не слышал и не вспоминал.
За несколько дней до этого купания Есенин посвятил Гелии стихи:
Голубая да весёлая страна.
Честь моя за песню продана.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?
……………………………….
Дорогая Гелия, прости.
Много роз бывает на пути,
Много роз склоняется и гнётся,
Но одна лишь сердцем улыбнётся…
Это же прощальные стихи, предсмертные.
Только, жаль, слабые получились — будто не кровью, а какой‑то бесцветной жидкостью написанные.
С такими стихами и уходить‑то в мир иной грех. (С. 748)
Ну что за писательские выдумки? Что за литературщина? Кто сказал, откуда видно, что это «предсмертные стихи»? Гелия — это дочка П.И. Чагина Роза, с которой играл Есенин. «Вспоминается мне белокурый, молодой, светлоглазый, красивый дядя. Очень хорошо относился ко мне, с лаской и заботой» (из письма Р.П. Чагиной 1967 г.). Играли они и в бассейне, и на спине девчонку возил Есенин, и в театр играли, когда Роза называла себя Гелией Николаевной. Играли и в телефон — когда Роза переговаривалась с дядей Серёжей по понарошечному телефону. «Он называл меня: Гелия. И я радовалась. Однажды он посвятил мне своё стихотворение «Голубая, да весёлая страна…»».
Прочитайте это стихотворение целиком — что там предсмертного? Есенин играет с ребёнком:
…
Ты ребёнок, в этом спора нет,
Да и я ведь разве не поэт?
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?
Маленькой девчушке радостно, дяде Серёже весело, но нет — заказному воображению биографа мнится: «Вроде бы умильно, а присмотришься, вслушаешься — жуть.
Вдалеке от собственной дочери возится в бассейне с чужой и каждую минуту помнит: у него там своя, которая растёт без отца. У Есенина сердце надрывалось от этих игр».
Интересно, с какого протёкшего потолка г‑н Прилепин это взял. Да чтобы ребёнок, особенно девочка, не почувствовал «жуткий надрыв» дяди Серёжи? Вот так и видится скупая мужская слеза Есенина, скрытая брызгами от возни в бассейне — крупный план а ля Феллини.
И вот это: «Только, жаль, слабые получились — будто не кровью, а какой‑то бесцветной жидкостью написанные».
Это очередной фокус г‑на Прилепина слабым получился — тут он тихой сапой подводит читателя к последнему, написанному кровью «До свиданья, друг мой, до свиданья». И всё, что не кровью — уже бесцветно. Бесцветно, потому что уже всё в воображении читателя должно отдавать буро-красным цветом засохшей крови. Иначе не поверит в насаждаемое картошкой во вспаханное сознание читателя мысль — Есенин задумал покончить с собой давным-давно, да вот всё как-то несподручно было.
Да и в море топиться оказалось неудобно: противно, солёно, сыро. Тьфу.
Надо как‑то иначе. И чтобы стихи другие написались: лучше и точнее.
Действительно, тьфу.
Следим за руками дальше.
Есенин не раздумал — отложил.
О чём через несколько дней прямо сообщит в новых стихах:
…Оглядись спокойным взором,
Посмотри: во мгле сырой
Месяц, словно жёлтый ворон,
Кружит, вьётся над землёй.
Ну, целуй же! Так хочу я.
Песню тлен пропел и мне.
Видно, смерть мою почуял
Тот, кто вьётся в вышине…
Но если бы он только один это чувствовал!
Мария Шкапская едва ли не в тот же день, когда сочинялось это стихотворение, писала Софье Толстой: «Есенина как человека — нужно всё‑таки бежать, потому что это уже нечто окончательно и бесповоротно погибшее, — не в моральном смысле, а вообще в человеческом (это, повторим, не постфактум дописано, не после смерти уже, а при живом Есенине, о попытке самоубийства которого Шкапская знать не могла. — 3.П.). Потому что уже продана душа чёрту, уже за талант отдан человек, — это как страшный нарост, нарыв, который всё сглодал и всё загубил». (С. 749).
Сначала о стихотворении. Оно написано в больнице в уверенности поэта в скорой кончине от мнимого туберкулёза (подробнее — см. выше). И насчёт Шкапской. Она действительно писала Толстой эти строки, это было ответное письмо на письмо Софьи Андреевны из Ясной Поляны от 20 апреля 1925 г., где последняя сообщала, как она разрывается между Борисом Пильняком («А без Б. жизни не мыслю») и Сергеем Есениным («Знаю, что С. люблю ужасно, нежность заливающая, но любовь эта — совсем, совсем другая!»). Здесь нелишне напомнить, что именно ленинградская журналистка и поэтесса Мария Шкапская в своё время (в начале 1925 г.) привела и познакомила свою подругу Софью Толстую с Есениным. Неудивительно, что внучка великого писателя делилась с ней своими душевными тайнами, получая от подруги сочувственные советы. И вот в этом сердечном раздрае подруга советует сделать определённый выбор, прибегая к вышеупомянутой аргументации. И ничего «отложенного» в смысле самоубийства Шкапская никак не чувствовала, даже, несмотря на вышесказанное: «…а ведь Сергей Есенин — талантище необъятный, песенная стихия, — но он так бесконечно ограничен [курсив мой — Д.Д.]». Необъятный, но бесконечно ограничен. Плохой оксюморон в попытке устроить подругу с более надёжным и, как мы понимаем, менее бесконечно ограниченным. Но стоит прочитать это письмо Шкапской до последней фразы и всё разъяснится: «Пишу ерунду, деточка, и сама знаю, что ерунду, как-то плохо связываются мысли». Что тут добавить?
Плохо связываются мысли не только у знакомой Есенина Шкапской, но и у его биографа:
Умереть — не такое простое дело, как иногда кажется.
Может, прощальные стихи о цветах [Стихотворение «Цветы» — Д.Д.] опять показались Есенину не самыми точными.
Нужно ещё лучше сочинить, точнее.
Эти — пока ещё жалостливые, человеческие.
А надо, чтобы от человека ничего уже не осталось.
Помимо финального стихотворения Есенин к тому моменту всё уже написал.
Нужно спокойно отдавать себе в этом отчёт. (С. 797)
Отчёт нужно отдавать себе в том, что биографии великих нужно писать, а не додумывать. Ну как же — поэт не готов к самоубийству, потому что не написано то самое, прощальное, безжалостное, точное, финальное… а вот вспомнилась мартовская строчка — «До свиданья, пери, до свиданья» (см. ниже), — гляди, подходит к петле, вот только заменим «пери» на «друг мой», напишем кровью, чтобы не бесцветно вышло, и всё — готово, путь окончен, только накинуть верёвку на вертикальную трубу, одеть лакированные туфли (не в носках же) и наконец-то непростое дело жизни, вернее, смерти, будет доделано. Всё это — как из одноразового детектива в мягкой обложке какой-нибудь Донцовой.
Итак, Глава 7. «Откуда взялась эта боль…» 1925–1: финал». — Эта глава как бы железный наконечник копья, брошенного в память Есенина, долженствующего навечно и окончательно пригвоздить её к доске с кривой надписью «самоубийца».
Он сделал столько, сколько мог, «больших» поэм; когда говорят о «необычайной работоспособности» Есенина в последние годы, совершают нехитрый подлог, объединяя 1924‑й и 1925‑й. Между тем и все «большие» поэмы последнего периода («Поэму о 36», «Песню о великом походе», «Анну Снегину»), и почти все «маленькие» за то же время (семнадцать из двадцати) он сочинил в 1924 году. В 1925‑м этот последний, предсмертный выплеск сошёл на нет: за исключением «Сказки о пастушонке Пете…», которую, право слово, к шедеврам не отнесёшь, сочинялись чаще всего короткие лирические стихи. (с. 798)
«В 1925‑м этот последний, предсмертный выплеск сошёл на нет…» — снова манипуляция с медицинским контекстом — известно, что перед смертью человеку часто становится лучше. В этом абзаце гибель Есенина представляется не в последовательности событий, а как дело решённое. Решить же мог только сам поэт, то есть самоубийца.
Всё, что имелось, он, оставив надежду завершить, отнёс к Изрядновой в печь.
Откуда такая уверенность? Никто не знает, что было в сожжённых бумагах, для этого, собственно, их и сжигали. И чем могли мешать какие-то наброски самому поэту или их будущим исследователям? Сжигают то, за что может быть стыдно или что может представлять опасность. Второе в условиях тех лет и после расстрела есенинского друга А. Ганина (25 марта 1925 г.) наиболее вероятно. И даже если это были наброски задуманных стихов/поэм, то автор сжёг их скорее не от безнадёжности, а от чувства самосохранения, то есть по совершенно противоположной причине. В предыдущей главе, однако, о сожжённых бумагах чуть подробнее: «Наставала пора прощаться — и всё делать в последний раз. Как‑то рано утром нагрянул к Анне Изрядновой: срочно решил сжечь какие‑то рукописи. Такое ощущение, что уже начал подчищать итоги жизни — чтобы ничего лишнего не осталось».
Так наброски без «надежды завершить» или «ничего лишнего»? Когда это у поэтов начатое было лишним? (Второй том «Мертвых душ», разве… да и Гоголь уморил себя голодом — но это никак не сравнимо). Такое ощущение, что это г‑н Прилепин начал подчищать итоги жизни Сергея Есенина, причём значительно раньше, а точнее — с самого начала, с первой главы «Все ощущенья детских лет… 1895–1914»:
Наслушавшись в свой адрес острот от сестёр Сардановских, Есенин вспыхнул: ах, вы шутите надо мной, думаете, что я смешон? — я сейчас покажу вам, кто я, каким я был.
Прибежал домой и выпил эссенции — к счастью, совсем немного.
«У меня схватило дух и почему‑то пошла пена», — признается он Бальзамовой только в октябре.
Всё поплыло перед глазами, кожа во рту сразу отошла — но, видимо, напугался, сплюнул, побежал за крынкой с молоком, начал себя отпаивать и снова плеваться.
Мать, наверное, потом удивлялась: а кто молоко‑то всё выпил? Сергей, ты, что ли? Жажда, что ли, одолела? Или опять поил кого‑то? А то у них самих молока нет.
…Никого не угощал.
Просто догадался о себе: однажды он это может сделать. (С. 44)
Последняя прилепинская строчка не случайна — она исподволь подводит к финалу, к последней главе. Однажды он это может сделать… значит, однажды сделает… чтобы не сестричкам Сардановским, а всей России, всему миру назло: «я сейчас покажу вам, кто я, каким я был».
Но это пока недорогая манипуляция, а дальше следует тот самый «нехитрый подлог», в котором Прилепин тремя абзацами выше обвиняет говорящих о «необычайной работоспособности» Есенина в последние годы. Да что с того, что поэт не написал ни одной крупной вещи в 1925‑м году, поэмы не создаются по пятилеткам. Поэм не написал, но в сентябре 1925 года продолжил работу над целым поэтическим циклом о русской зиме — начал писать третье стихотворение «Синий туман. Снеговое раздолье…». И прозрачно-синие «Персидские мотивы» были закончены как раз в 1925‑м:
Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны…
(Золото холодное луны…, 1925 г.)
или:
Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.
(В Хороссане есть такие двери…, март 1925 г.)
Или, как ниже утверждает манипулятор, Есенин и на Русь возвращался умирать, как уехал умирать в Ленинград? И прощальная строчка из «В Хороссане есть такие двери…» — «До свиданья, пери, до свиданья» — едва переделанная прощальная строчка из жизни?
В последний день ноября три тома собрания сочинений Есенина уходят в печать. (С. 805)
Известный писатель Роман Сенчин первым обратил внимание на эту несуразицу — все три тома ушли в набор, а не в печать — это означает, что автору ещё предстояло утверждать (и править) гранки, которые он 23-го декабря просит в Госиздате переслать ему в Ленинград. Вряд ли профессиональный сочинитель Прилепин не знает разницы между сдачей в набор и печатью. Тут системно применяется обычное контекстное манипулирование — мечта о прижизненном издании собрания сочинений сбылась, больше мечтать не о чем, это потолок, пора под потолок. Примерно, как старику, чьи все три сына разом победили на древних Олимпийских играх — греки кричали, когда сыновья несли его вдоль трибуны — умри, старик, тебе больше нечего желать. И попутно затушёвывается главный мотив невозможности самоубийства поэта — работа над гранками собственного прижизненного (!) собрания сочинений.
Совсем уж мрачной прелюдией к ещё более мрачному финалу выставляется у Прилепина поездка Есенина в Ленинград в начале ноября 1925 года:
Между прочим, в Ленинграде никаких дел у него не было — вообще.
Он поехал туда умирать — подальше от дома.
В Ленинграде прохладно, ветрено; там всё не так быстро разлагается, как в Москве. (С. 799)
Рассмотрим.
Первым мысль о том, что Есенин поехал в Ленинград навстречу смерти, [имеется ввиду последняя поездка в декабре 1925 г. — Д.Д.] высказал в своей поминальной статье «Сергей Есенин и его смерть», опубликованной в вечернем выпуске «Красной газеты» 29 декабря 1925 года, Г.Ф. Устинов: «Есенин, приехав в Ленинград, говорил, что приехал работать. Но он приехал сюда, откуда начал, не работать, а умереть». С этого-то голоса и поёт г‑н Прилепин. Но примечательно, что меньше, чем через год Устинов в своих воспоминаниях («Мои воспоминания о Есенине») утверждал уже прямо противоположное: «Он забрал с собою все своё имущество, рукописи, книжки, записки. Он ехал в Ленинград не умирать, а работать».
И ниже: «Есенин не приехал умирать — это бесспорно».
И, внимание: «Прощаясь со мной в ноябре, Есенин обещал приехать через месяц. Вообще переехать в Ленинград с некоторых пор у него стало заветным намерением. Москва его знала. Ему надо было покорить и Ленинград, который к тому же «корился» сравнительно легко».
Всех этих «жизненных» мотивов поездок в Ленинград Прилепин, конечно же, не замечает, и с маниакальным упорством представляет нам поэта, практически мечтающего умереть в Ленинграде со второго раза, коль не получилось в первый. А ведь и в первый приезд Есенин не просто праздно шатался без дела и без пальто по набережной Невы (когда неожиданно пропал из поля зрения Уварова — об этом ниже) — поэт видится на улице с Клюевым, в квартире Садофьева (ул. Ракова (с 1991 — Итальянская), 29) встречается с Н.Н. Никитиным, навещает вместе с Н.П. Савкиным супругов Г.Ф. и Е.А. Устиновых в гостинице «Англетер», намеревается встретиться с Эрлихом.
Поэт гостил в Ленинграде со 2 по 5 ноября и как раз на третий день он, по твёрдым воспоминаниям Устинова «…целый вечер, просидел у меня в «Англетер», трезвый [курсив мой — Д.Д.] и необыкновенно смирный. Он мне показался тем Есениным, которого я знал в 1919 году. Есенин читал свои новые стихотворения, в том числе «Чорного человека». Эта поэма была ещё не отработана, некоторые места он мычал про себя, как бы стараясь только сохранить ритм, и говорил, что над этой поэмой работает больше двух лет».
(Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. Госиздат, под редакцией И.В. Евдокимова. М‑Л, 1926, С. 160).
Вот поэтому поэт и «проверял» (по выражению Никитина) поэму «ещё на одном слушателе» — Устинове. А вы, г‑н Прилепин, говорите — в Ленинграде никаких дел у него не было — вообще.
Есенин даже успевает ответить на анкету местной «Новой вечерней газеты» по вопросам материального положения: «Хотелось бы, чтобы писатели пользовались хотя бы льготами, предоставляемыми советским служащим. Следует удешевить писателям плату за квартиры. Помещение желательно пошире, а то поэт приучается видеть мир только в одно окно». [Напечатано 18 ноября 1925 г. в рубрике «Как живётся нашим писателям» — Д.Д.] Самоубийца, беспокоящийся о расширении писательских помещений…
Как, зная это, оценить удобно подбираемые пересказы из предыдущей главы, 799‑й страницей которой, как гвоздём, (продолжая образ) крепится к древку всей книги этот заострённый чешуйчатый наконечник?
На третий день Есенин пропал.
Уваров, которому Сахаров велел Есенина беречь, бросился искать пропащего поэта.
Выбежал к Неве, метался там, вглядывался в лица. Наконец видит: навстречу в одном костюме — а погода ледяная, пронизывающая, воздух со вкусом снега — идёт Есенин.
— Что с тобой, Серёжа?!
Спокойно ответил:
— Хотел утопиться в Неве. — И, помолчав, добавил: — Холодно.
Все это известно по воспоминаниям журналиста (в описываемое время —работника детской редакции Госиздата) Ивана Старцева, который передал эту историю со слов другого журналиста Ивана Уварова, «слегка» перелепленную Прилепиным. В оригинале:
«На испуганный окрик Уварова:
— Что с тобой, Серёжа? Куда ты ходил?
Есенин ответил:
— Хотел утопиться в Неве.
И тут же добавил:
— Какая холодная погода!»
(Сергей Александрович Есенин. Воспоминания. Госиздат, под редакцией И.В. Евдокимова. М‑Л, 1926, С. 89–90).
У Прилепина — не просто ответил, а «спокойно ответил». Не «тут же добавил», а «помолчав, добавил». Чувствуете подводку к якобы холодной осознанности давнего рокового решения?
Сам Уваров об этом эпизоде нигде не упоминает и точных обстоятельств того разговора на набережной мы не знаем. Опять кто-то что-то слышал — как в подобном эпизоде 50‑ю страницами выше. И почему нужно топиться непременно в холодную ветреную погоду, как в Баку, о чем нам — «откуда-то знала» — поведала Софья Толстая в главе 6‑й, если она как раз этому препятствует?
Примечательно, что Уваров жил в одном доме с А.М. Сахаровым на углу Французской набережной (ул. Гагаринская, 1), у которого обычно и останавливался Есенин. Но не в этот раз, более того, не заметил Сахарова на вокзале при отъезде в Ленинград 23-го декабря и даже не зашёл к нему в соседний вагон. При этом Сахаров поручает его попечению соседа Уварова. Но сейчас не об этом.
В другой город, особенно в Ленинград, не всегда едут по делам, г‑н Прилепин. А если определенных дел нет — то скорее едут жить, а не умирать, особенно, когда едут надолго. Об этом с очевидностью для «функционально грамотных» — по А. Марченко — свидетельствует опись вещей поэта, сделанная участковым надзирателем Н. Горбовым при осмотре злосчастного пятого номера Англетера, в которой, в частности, указаны:
«…большой дорожный кожаный чемодан с носильным платьем и бельём; 2) брезентовый чемодан среднего размера с разной перепиской, верхним платьем и бельём и туалетными принадлежностями; 3) малый чемодан темно-коричневого цвета с обувью; 4) кожаный черный чемодан; 5) с обувью».
Эта опись станет известна журналистам, и 3 февр. 1926 г. ленинградская «Новая вечерняя газета» (№ 30) сообщит: «Из описи вещей, оставшихся после Есенина, видно, что поэт прибыл в Ленинград надолго [выделено мной — Д.Д.], по-видимому, думая навсегда расстаться с Москвой» Даже Г. Устинов понял нелепость собственного утверждения сознательного выбора Ленинграда как места задуманной смерти и исправил его на противоположное (см. выше). Или Есенин вёз обувь чемоданами, потому что не решил, в каких туфлях вешаться — лакированных или обычных, чтобы попасть под представления о стиле своих будущих биографов? А зачем висельнику переписка? Всплакнуть перед петлёй от воспоминаний, читая старые письма?
Кстати, о переписке. Давайте заглянем в «Акт осмотра переписки, найденной в чёрном кожаном чемодане, оставшемся после смерти Есенина» (составлен 22 апр. 1926 г. секретарём народного суда 2‑го отделения г. Ленинграда М.Е. Константиновым, членом коллегии защитников А.М. Мещеряковым и З.Н. Райх): «…при осмотре оказалось, что печати, наложенные судебным исполнителем, были в полной сохранности; среди переписки, находящееся в чемодане, оказались следующие бумаги, писанные рукой Есенина: 1. обрывки доверенности на имя гр. Эрлиха; 2. 3 обрывка стихов; 3. рукописи стихов без подписи с 3 стр. по 32 стр. включительно, начиная со стихотворения “Девичник” и кончая оглавлением; 4. поэма, напечатанная на машинке, под заглавием “Анна Снегина” с поправками, написанными рукой Есенина; 5. договор с издательством Гржебина от 18 мая 1922 г.; 6. 4 фотографические карточки».
Так, стало быть, не все сжёг, «что имелось»? Вряд ли г‑н Прилепин не был знаком с в.у. актом, приведённым в Есенинской Летописи ИМЛИ. Так, стало быть, грубая подтасовка, мошеннство, если хотите.
Прилепина опровергли задолго до Прилепина. В частности, Вольф Эрлих, писавший В.И. Вольпину о событиях рокового вечера 27-го декабря 1925 года:
«С Невского я вернулся вторично: забыл портфель, а с ним и доверенность. Ушаков к тому времени успел уйти. Сергей сидел <у стола> спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи». Не иначе те, которые были указаны в описи. Что это, как не предварительная работа над изданием своих сочинений, гранки которого Есенин просил переслать ему в Ленинград?
Сын самого поэта (от З. Райх) Константин Сергеевич Есенин напишет в 1970‑х годах: «Уезжал в Ленинград всерьёз. Наверное, ехал жить и работать, а не умирать. Зачем иначе ему было возиться с огромнейшим, тяжеленным сундуком, набитым всем его скарбом. Это деталь, по-моему, существенна». По-моему, тоже. Но не для исполнителя заказа на вечное зачисление национального русского поэта в самоубийцы.
А ведь любой неангажированный исследователь не прошёл бы мимо воспоминаний людей, окружавших поэта в последние дни его земного бытия. Вот жена Георгия Устинова Елизавета Алексеевна, проживавшая с мужем в 310‑м номере того же «Англетера», вспомнит: «…мы с ним <Есениным> поехали вечером покупать продовольствие на праздничные дни. Есенин рассказывал о том, что стихов больше не пишет, а работает много над большой прозаической вещью — повесть или роман. Я попросила мне показать. Он обещал показать через несколько дней [курсив мой — Д.Д.], когда закончит первую часть. Рассказывал о замужестве своей сестры Кати, подшучивал над собой, что он-то уж избавлен от всякой женитьбы, так как три раза был женат, а больше по закону не разрешается».
Она же чуть ранее — утром того же дня (24 декабря 1925 г.): «Пошли к нему. Есенин сказал, что он из Москвы уехал навсегда, будет жить в Ленинграде и начнёт здесь новую жизнь — пить вино совершенно перестанет. Со своими родственниками он окончательно расстался, к жене не вернётся — словом, говорил о полном обновлении своего быта. У него был большой подъем».
Это подтверждает и некий военкор Дмитрий Ушаков (по другой версии — Алексей), близкий знакомый Г. Устинова по Костроме, (в конце 1924-го — начале 1925 года Георгий Устинов занимал в Костроме должность губинспектора по делам печати и зрелищ и заведовал Губполитпросветом), квартировавший там же: «Есенин прибыл в Ленинград утром 24 декабря из Москвы со всеми своими чемоданами, рукописями и пр. и с твёрдым намерением, как он сообщил живущему в той же гостинице журналисту Г. Устинову, поработать здесь».
На очередном круге есенинских метаний по Москве Виктор Шкловский застал его рыдающим на Тверской.
— Пушкин, за что ты меня погубил? — повторял Есенин. (С. 801)
Вообще-то, это взято из фельетона В. Шкловского «Что нас носит», напечатанного в газете «Вечерняя Москва» 21 ноября 1925 г. Фраза о Пушкине там присутствует, но не в качестве факта встречи критика и поэта в 4 утра на Тверской (что там было делать Шкловскому в такой час?):
«Всё это приходится писать потому, что в последнее время началось причёсывание литературы. Её вытягивают в одну линию. Так она существовать не может. Современный писатель не ученик русских классиков. Классики от классиков не происходят.
«Пушкин, за что ты меня погубил», — так плакал в 4 часа ночи поэт.
Я не прошусь к Пушкину ни на руки, ни под ручку…
Сейчас его памятник — бронзовая пробка в горле бульвара. Он губит людей, которые хотят писать, как классики [курсив мой — Д.Д.].
Губит Есенина, который котёнком лезет на его постамент».
Ясно же, что это только фигура речи, а не «фигура встречи», да извинят меня филологи за мемуарный неологизм. И «погубил» употреблено в смысле литературного влияния, а не физического угасания. И, как показали похороны Есенина, обнесённого трижды вокруг Александра Сергеевича, классики все-таки происходят от классиков.
В конце ноября 1925 года (26-го) Есенин ложится на лечение в психиатрическую больницу 1‑го Московского государственного университета. Сестра Шура вспоминает, что клиника «скорее походила на санаторий: внизу в вестибюле стояли цветы, всюду чистота, на натёртых паркетных полах лежали широкие ковровые дорожки. Отношение врачей к Сергею было очень хорошим. Ему отвели отдельную хорошую светлую комнату на втором этаже, перед окном которой стояли в зимнем уборе большие деревья [и тот самый «Клён ты мой опавший, клён заледенелый» — Д.Д.]». Но, главное: «С первых дней пребывания в клинике Сергей начал работать. Без работы, без стихов он не мог жить». И то же говорит другая сестра — Катя, иногда приносившая брату в клинику обеды: «В больнице Сергея поместили в хорошей комнате. Он повеселел — никто его не достанет теперь. Много читал, писал чудесные стихи, играл с азартом в бильярд и строил планы на будущее… Эти планы на будущее Сергей твёрдо решил выполнить — [курсив мой — Д.Д.]». Но г‑н Прилепин спокойно проходит мимо невыгодных для его направления описаний, зато вспоминает приход Мариенгофа с Никритиной:
Мариенгоф с Никритиной были — перебесившийся от своих обид Анатолий понял, что лучше друга у него не было и вряд ли будет.
Никритина записала, что у Есенина навязчивые мысли о самоубийстве.
О самоубийстве вообще.
Он сидел и рассуждал, что есть такие больные люди, которые себя убивают.
Конечно, тут «самоубийство», а там — «планы на будущее». Лишнее, как говорится, зачеркнуть. О посещении супругов Мариенгофа и Никритиной поведала, кстати, та же Шура. К этому моменту выяснилось, что на поверку это был все-таки не санаторий, а настоящая больница, где всю ночь не гасили свет, а двери палат не закрывались. На это, собственно, и жаловался Есенин и добавлял, что «им не дают ни ножичка, ни верёвочки, чтоб чего над собой не сделали». Но Никритина — артистка Камерного театра, то есть женщина с преувеличенным воображением, восприняла эти жалобы, как засевшую в голове поэта «страшную мысль о самоубийстве». Натяжка неимоверная.
Последние годы, при всём непрестанном пьяном мандраже и гонке куда‑то, в чём‑то главном — в стихах, во взгляде — Есенина всякий раз, когда он бывал трезвым хотя бы час, характеризовала стоическая предсмертная несуетность.
Столь же несуетно в преддверии смерти вели себя и Пушкин, и Лермонтов; но они были сотню лет назад, а Блок — только что, почти на глазах.
Он показал, как это делается.
Связь Есенина и Блока была незримой, но неотвязной.
Блок будто бы проводил Есенина через всю его жизнь.
В своё время Блок встретил его из Москвы — «чистого, звонкого, голосистого» (блоковские эпитеты).
Теперь приходила пора встретить его снова: без чистоты, без звона, без голоса.
Это ничего. Это жизнь. Это смерть. (С. 808)
«Предсмертная несуетность», причём стоическая — ничем не хуже «обманчивой трезвости», о которой ещё скажем.
Есенина вернули в больницу.
20 декабря его пришла навестить Берзинь.
Отведя её в свой кабинет, врач Александр Яковлевич Аронсон спокойно сообщил:
— Сергей Александрович неизлечимо болен, и нет никакой надежды, что он поправится.
Она трижды переспросила.
Аронсон трижды повторил: надежды нет.
В истории болезни у Есенина значилось: белая горячка и алкогольный галлюциноз.
Матвей Ройзман вспоминал, что Аронсон в разговоре с ним назвал диагноз: «ярко выраженная меланхолия». Сегодня это называется маниакально‑депрессивным психозом или биполярным расстройством личности. (С. 810–811)
Вообще-то Есенин ложился с жалобой «на кашель и кровохарканье», которые преследовали его ещё с Батума и о которых мы подробно рассказали выше. В истории болезни поэта, в графе «другие заболевания», действительно значился диагноз «Tremens, Hallucination (Белая горячка. Галлюцинации». Не нужно быть профессиональным психиатром, чтобы понимать, что белая горячка и маниакально-депрессивный психоз, переименованный по этическим соображениям в биполярное аффективное расстройство личности (БАР) — болезни очень разные. Но их нужно было объединить в книге в фатальный диагноз — во-первых звучит страшнее, а, во-вторых, — суицидальные мотивы характерны для именно для депрессивной фазы БАР. В принципе, для больных белой горячкой это тоже характерно, но в последней, третьей стадии, когда наблюдается обострение слуховых галлюцинаций, при этом голоса угрожают больному, унижают или смеются над ним. Ничего подобного в отношении Есенина не зафиксировано ни врачами, ни близкими — никаких гигантских тараканов, преследователей и других чудовищ ему не являлось (а это ещё 2‑я стадия болезни). Зато первая — непоследовательная сбивчивая речь и гиперчувствительность к раздражителям, особенно людям (Толстая) по описаниям вполне подходит. И можно ставить диагноз, пригодный для защиты от судебного преследования. Кашель, даже с кровью, от явки в суд точно бы не спас. При этом сам Есенин пишет из больницы И.В. Евдокимову: «Живу ничего. Лечусь вовсю. Скучно только дьявольски, но терплю, потому что чувствую, что лечиться надо». Кончено, при такой жизни и пьянстве поэт не мог не заболеть. Но Сергей Есенин выбрал лечение. Выбрал осознанно. И первое лекарство — поэзия. Из того же письма: «На днях пришлю тебе лирику «Стихи о которой»». И без всякого биполярного аффективного расстройства личности.
Самая спокойная, констатирующая факт, реакция у Анны Изрядновой: «Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришёл проститься. На мой вопрос: „Что? Почему?“ — говорит: „Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное умру“». (С. 812)
Вообще-то самая «спокойная реакция» была у сестры поэта Екатерины, к которой в те же дни заходил Есенин: «22-го <декабря> я видела его в последний раз. Он был здоров и твёрд [курсив мой — Д.Д.]». Изряднова не говорит о том, что поэт плохо выглядел или был удручён. Слова «наверное умру» были именно его слова, к тому же относились к плохому самочувствию, от чего можно «наверное умереть», а не к суицидальной тоске. Но как бы там ни было, подборка воспоминаний близких Есенина г‑на Прилепина крайне тенденциозна. Когда, например, описывая встречу Есенина писателем Семёном Борисовым (Штерном) в доме Герцена 21-го декабря, биограф приводит красочные воспоминания последнего: «В клубе, внизу, я нашёл Есенина. Он сидел за столом, уронив на руки взлохмаченную голову. Когда я подошёл, он поднял на меня голову, и более жуткого, истерзанного, измученного человеческого лица я не видел… Глаза были совершенно красные, веки опухшие, щёки совершенно втянулись, кожа была грязно‑жёлтого цвета. Безумным блуждающим взором посмотрел он на меня…». Борисов нашёл Есенина не случайно — его попросили уговорить поэта, требующего вина в ресторане дома Герцена, ехать домой. Есенин ехать не хотел. Тогда Борисов попросил буфетчика погасить свет — так во все времена выпроваживали из ресторанов загулявших посетителей. Через полчаса и бутылки-другой нарзана, по словам того же Борисова, «постепенно свежел». Ещё через некоторое время они уже были на воздухе, и Есенин читал ему «Какая ночь! Я не могу…» (как выразился сам поэт — «Это прощание с Соней»). Потом взял извозчика и поехал домой. Обычный вид загулявшего пьющего человека, ничуть не удивительное поведение поэта, сознающего свою гениальность и всё… но в контексте скорой смерти читатель этих мемуаров просто неизбежно подталкивается к выводу о том, что у Есенина просто не оставалось сил жить — «истерзанное, измученное» лицо… даже «жуткое». Взор, конечно, «безумный» и обязательно «блуждающий». Но как-то чересчур сильно для пары бутылок нарзана, приведших поэта в лирическое чувство. Такое впечатление, что Борисов ждал появления Прилепина 100 лет.
На следующий вечер Сергей Александрович снова выпивал в том же ресторане.
В ночь на 23 декабря Есенин ещё раз появился в Доме Герцена.
Застал компанию литераторов. За столом сидели издатель Сергей Поляков, сын коменданта Дома Герцена Константин Свирский, поэт Евгений Сокол.
Есенин опять был пьян; когда наливал себе вино — руки сильно дрожали.
Однако внимательно всех оглядывал.
Выглядел, как всегда в последнее время — чудовищно.
Что‑то говорил — о себе, о Ширяевце, о поэзии; потом задал один вопрос:
— Умру — жалеть будете? (С. 812)
Вот это главное для биографа Прилепина — «руки дрожали». Что-то говорил о Ширяевце… слава Богу, доподлинно известно, что. Поэт Евгений Сокол рассказал об этом гораздо подробнее, чем через губу обронил нам г‑н биограф:
— Ведь разве так делают? Разве можно так относиться к умершему поэту? И к большому, к истинному поэту? Вы посмотрели бы, что сделали с могилой Ширяевца. Нет её! По ней ходят, топчут её. На ней решётки даже нет. Я поехал туда и плакал там навзрыд, как маленький плакал. Ведь все там лежать будем, — около Неверова и Ширяевца! Ведь скоро, может быть, быть будем — а там даже и решётки нет. Значит, подох — и чёрт с тобой! Значит, так-то и наши могилы будут?
Дальше Есенин просит Сергея Полякова передать членам ширяевской комиссии Львову-Рогачевскому и Клычкову, что он им горло перегрызёт за ширяевскую могилу. А если у комиссии нет денег (на такую причину указал Поляков), то и своих не пожалел бы: «Скажите вы им, что я дам денег, только чтоб ширяевская могила была, как могила, а не чёрт знает что. Ведь все там лежать будем».
Вот тот нерв, который заставлял глушить боль вином, вот это щемящая тоска от несправедливости окружающих к нему живому, к его почившему другу, к истинной поэзии. Всё это происходит и сейчас, в том числе и под крылом нового «есениноведа», желающего взять под опеку бездарные вирши так называемой «донбасской поэзии», давно поставленной г‑м Прилепиным и присными на раскрученный торговый поток. И привести есенинскую фразу «Умру — жалеть будете?», запомнившуюся в тот день и в том ресторане тому же Борисову без его же последующего комментария: «Этот вопрос всерьёз даже нельзя было всерьёз < так в тексте> принимать — он только что говорил о жизни» — просто вопиющая недобросовестность.
В очередной раз обсудили верстающееся собрание сочинений. Евдокимов пообещал выслать гранки. Спросил, будет ли автобиография.
Есенин отмахнулся:
— Я писал автобиографии… Всё ложь, Евдокимыч, ложь!.. Любил, страдал, пьянствовал… Обо мне напишут ещё!.. Напи-ишут!
Кажется, эта фраза ему понравилась самому, и за этот день он повторил её ещё то ли дважды, то ли трижды. (С. 813)
Вообще-то, классиков принято цитировать точно. Это правило хорошего тона. Но только не здесь. Точно фраза Есенина, которую запомнил и передал после в своих воспоминаниях И.В. Евдокимов, звучит иначе:
«Любил, целовал [курсив мой — Д.Д.], пьянствовал… не то… не то… не то!.. Скучно мне, Евдокимыч, скучно!» И перед этим Есенинское восклицание, которое послужила источником слухов о покушении на самоубийство, звучало тоже иначе: «Обо мне напишут, напи-и-шут! Много напи-ишут! А мою автобиографию к чёрту! Я не хочу! Ложь, ложь там всё!».
Оставим на удобной совести г‑на Прилепина замену «любил» на «страдал», тем более, это часто синонимы. Но вот ещё насчёт «напишут» — Есенин, действительно эту фразу повторил в тот день не единожды. В частности, с разговором в пивной с писателем Тарасовым-Родионовым, где они вместе дожидались открытия кассы Госиздата. Прилепин ограничивается фактом «утаскиванием» того в пивную.
В Госиздате работал писатель Александр Тарасов-Родионов; Есенин сообщил и ему, утащив в пивную:
— Обо мне напи-ишут! Ой, напишут!..
Но вот сам А. Тарасов-Родионов передаёт в воспоминаниях важнейшие детали того разговора:
— Скучно? – ухмыльнулся я. — А как же искусство? Значит, и оно тебя не удовлетворяет?
— Нет! – рванулся он [Есенин — Д.Д.] и мотнул своей прозрачной шеей, как индюшонок. — Нет! — прохрипел он с какой-то вымученной злобой. — Не-е-ет. Я работаю и буду работать [курсив мой — Д.Д.], у меня ещё хватит сил показать себя. Я много пишу и ещё много надо писать. Да, надо много писать, и я умею писать. Я не выдохся. Я ещё постою.
И далее о благодарности Советской власти и лично Ленину и Троцкому за свой поэтический расцвет. Именно в том разговоре всплыла телеграмма Каменева отрёкшемуся от престола в.к. Михаилу, послужившая основой эпизода мыльного сериала «Есенин» с Безруковым по её поиску в 5‑м номере Англетера с последующим убийством (подробней о фильме читай мою статью «Поминальное чтиво»).
Но суть не в телеграмме, которая секретом никаким не была и компроматом на большевистского вождя никоим образом послужить не могла. Главное здесь — «Я работаю и буду работать…».
Это было сказано в день отъезда и подтверждено в разговоре с Устиновыми в день приезда в Ленинград, как мы видели выше.
Вообще, последний день Есенина в Москве описан многими современниками. Но из всех биограф почему-то оставил только воспоминание Наседкина, заставшего уже в качестве зятя Есенина на квартире Толстой, собирающего те самые чемоданы:
Наседкин запомнил, что Есенин говорил несуразности и был почти невменяем.
Так и напишет: «Почти невменяем».
И воспоминания детей — Тани и Кости:
Последнюю встречу дочь запомнила.
— Мне надо с тобой поговорить, — сказал он ей.
«…сел, не раздеваясь, прямо на пол, на низенькую ступеньку в дверях. Я прислонилась к противоположному косяку. Мне стало страшно, и я почти не помню, что он говорил, к тому же его слова казались какими-то лишними, например, он спросил: “Знаешь ли, кто я тебе?“
Я думала только об одном — он уезжает и поднимется сейчас, а я убегу туда — в тёмную дверь кабинета.
И вот я бросилась в темноту. Он быстро меня догнал, схватил, но тут же отпустил и очень осторожно поцеловал руку».
Оставив дочь, пошёл прощаться с Костей.
Костя был в детской комнате. У него был диатез, и он держал руки над медицинской лампой.
Костя не только лечил руки лампой — внимательно слушал отца:
«Отчётливо помню его лицо, его жесты, его поведение в тот вечер. В них не было надрыва, грусти. В них была какая-то деловитость…»
Кому — невменяемость, кому — деловитость. В один и тот же день. На выбор читателя. Но вот г‑н Прилепин читателю выбора не оставил. (Восп., 2, 277)
Далее более интересно — общипанные биографически-мемуарные доказательства сменяются возвышенно-литературными. После хронологического приведения Есенинских строк с суицидальными мотивами следует безапелляционный вывод:
За 15 лет Есенин сочиняет целую антологию текстов о своей преждевременной, от собственных рук, смерти, о своих похоронах. В его поэтической жизни не было года, когда бы он хоть строкой о том не обмолвился. Но в конце концов вдруг появляются удивительные люди, которые зачем-то пытаются доказать, что поразительные, пронзительные стихи «До свиданья, друг мой, до свиданья…» он не сочинял.
Да здоровы ли они?
Может быть, досужий человек, прошедший самым краешком русской поэзии, думает, что подобное поведение в целом характерно для неё и там каждый второй имеет дурную привычку предсказывать собственный суицид?
Нет, не имеет.
Этой темы нет ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Тютчева, ни у Блока. Ну так они и не думали совершать последнее насилие над собой.
И у Клюева этой темы нет, и у Клычкова, и у Ширяевца не найдёшь.
Потому что их судьба такого выхода не предполагала.
Если русский поэт не собирается сводить счёты с жизнью, он об этом не треплет языком попусту.
Маяковский писал — и совершил над собой то, что обещал.
Когда Есенин сказал своему знакомому: помяни моё слово, мы с Маяковским сведём счёты с жизнью, — он, в сущности, говорил не как человек, заглянувший за край неведомого, а как читатель, знающий, что в русской поэзии слов на ветер не бросают.
Он писал это о себе и знал наверняка, что его ждёт.
Есенин не лгун. (с. 838)
Есенин-то не лгун. Лжёт его биограф, который мнит, что прошёл по русской поэзии столбовой дорогой, а не «самым краешком», как остальные — сирые и несогласные.
Итак, Пушкин.
Отношение первого русского поэта к смерти — своей и смерти вообще было почти восторженным. Например, смерть Байрона от лихорадки в греческих Мессолонгах 19 апреля 1824 года вызывала у Пушкина восхищение. В письме П.А. Вяземскому в июне 1824 года он напишет: «… тебе грустно по Байроне, а я так рад его смерти, как высокому предмету для поэзии».
Читаем у Пушкина в стихотворении Таврида (1822 г.):
…
Конечно, дух бессмертен мой,
Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне будет мир земной?
…
Любви! Но что же за могилой
Переживёт ещё меня?
Или строки следующего года:
Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны, —
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир.
В послании П.А. Осиповой ровно за сто лет до гибели своего поэтического преемника Александр Сергеевич напишет:
Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.
Но и в дали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней.
Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.
(1825)
Если бы автор данной статьи задался целью доказать, что Пушкин с юношеских лет и вплоть до трагического конца стремился к смерти, а дуэль на Чёрной речке явилась актом скрытого самоубийства (что, кстати, недалеко от истины), то надёргать таких строчек на «антологию» («Сцена из Фауста», «Люблю ваш сумрак неизвестный…», «Дар напрасный, дар случайный…», «Предчувствие», «Брожу ли я вдоль улиц шумных,..», «Прощание»,) не составило бы труда. И закончить сей грустный список строчками из ненапечатанного при жизни стихотворения Пушкина «Когда за городом, задумчив, я брожу»:
…
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мёртвые в торжественном покое…
(1836)
Так же был «склонен к суициду» и Блок. Достаточно прочитать отрывок из цикла «Пляски смерти» 1912 года — «Как тяжко мертвецу среди людей…»:
Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Или немногим ранее:
Как тяжело ходить среди людей
И притворятся не погибшим…
Но данная статья посвящена не сравнительному литературоведению, а опровержению надёрганных «доказательств» из жизни и даже из смерти («Пускай хоть смерть понятней жизни» — по Блоку) великого национального поэта – доказательств его сознательного и неизбежного самоубийства.
В самоубийстве Есенина не сомневался никто.
Такого человека в 1925 году в России и за её пределами не было.
По крайней мере, сведений об этом никаких. (С. 850)
Отчего же не было — были. И сведений о них нет только у г‑на Прилепина.
Один из пришедших в середине дня 28-го декабря в 5‑й номер Англетера (вместе с Б.А. Лавренёвым и И.А. Оксёновым — товарищами по ленинградской литературной группе «Содружество») — поэт и переводчик Николай Леопольдович Браун (впоследствии один из авторов гимна СССР) расскажет сыну Николаю (Н.Н. Брауну): «У Есенина были изрезаны, похоже бритвой, руки. Но совсем не поперёк, а вдоль. Как при пытке. [В нижней трети правого плеча имеется кожная рана с ровными краями длиною 4 см. < >; в нижней трети левого предплечья имеется одна рана, идущая в горизонтальном направлении и 3 раны в вертикальном направлении; эти раны около 3‑х сант. — Выдержка из Акта вскрытия трупа — Д.Д.] Левый глаз выбит. В ноздрях застыла жидкость, очень напоминавшая головной мозг. Череп пробит в лобовой части. Две вмятины чуть повыше переносицы». Браун-отец добавил — «Как будто сдвоенной железной палкой ударили!». На вопрос сына, какая из ран оказалась смертельной, Браун определенно сказал: «та, что над правой бровью». И дальше ещё интересней: «Когда Есенина нужно было выносить, я взял его, уже окостеневшего, под плечи. Волосы рассыпались мне на руки. Запрокинутая голова опадала. Были сломаны позвонки. При повешении у человека расслабляются все органы. При убийстве — нет. И на полу, и на диване, куда положили труп Есенина, было сухо. Никакой врач не поверит, что перед ним самоубийца, если мочевой пузырь не опорожнился. Не было ни посинения лица, ни высунутого языка». (Журнал «Посев», М., 2009, № 4, С. 23) (Насчёт языка не обмолвится и Оксёнов, хотя и отметил, что «рот полуоткрыт»).
Это вспоминал человек, работавший в 1919–20‑х годах санитаром скорой помощи, наглядевшийся на разные трупы, в том числе, и самоповешенных. Отсутствие синевы отметит и П.Н. Лукницкий, присутствовавший на гражданской панихиде в Ленинградском отделении Всероссийского союза писателей: «Есенин мало был похож на себя. Лицо его при вскрытии исправили, как могли, но все же на лбу было большое красное пятно, в верхнем углу правого глаза — желвак, на переносице — ссадина, и левый глаз — плоский: он вытек. Волосы были гладко зачёсаны назад, что ещё больше делало его непохожим на себя. Синевы в лице не было: оно было бледно, и выделялись только красные пятна и потемневшие ссадины» (Дневник Лукницкого, 313–315). Через месяц (29 января 1926 года) Лукницкий пишет Л.В. Горнунгу: «Лицо Есенина — обезображено: Есенин повернут лицом к трубе парового отопления. Ночью пустили пар — обожжён лоб, один глаз на выкате, другой — вытек. Обожжена переносица (о ранах на руке не пишу — известно, конечно)». (РГАЛИ, ф. 2813, оп. 1, ед.хр. 15). Не ясно, кто первый выдвинул версию внезапного ночного включения отопления, но версия оказалась удобной.
Это письмо указано в Летописи, конечно. Но Прилепин не замечает этого документа, зато цитирует прямо следующий за ним:
Между тем во время работы специально созданной комиссии Всероссийского писательского Есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти Есенина старший прокурор Генеральной прокуратуры Российской Федерации Н.Н. Дедов встречался с вдовой Лукницкого.
«При моей встрече с В. Лукницкой и её сыном С. Лукницким в их квартире, — рассказывал Дедов, — они пояснили, что Павел Лукницкий при жизни не высказывал сомнений в самоубийстве С.А. Есенина и каких‑либо сведений об этом у них не имеется».
Справка, подготовленная Дедовым, гласит: «Сын Лукницкого, бывший работник прокуратуры СССР, МВД СССР, литератор, сообщил, что отец много рассказывал дома о С. Есенине, и, если бы он сомневался в самоубийстве, непременно рассказал бы ему».
Что касается глаза — Павлу Лукницкому всё это явно примнилось. Такой зрительный эффект могла создать деформация одной половины лица, вошедшей в соприкосновение с трубой. (С. 872)
Примнилось, значит. Если и примнилось — то ожог, а не травма, но дважды приведённые письменные указания на обезображение непосиневшего лица и известных уже, «конечно» всем (!), — ранах на руке лжебиограф просто опускает. Вот потому полуправда гораздо хуже лжи — полуправда — окатыш истины, она имеет округлые края и выхватить её на свет подчас гораздо тяжелее, нежели прямую ложь.
Да, все исследователи чуть ли не наизусть знают Акт о вскрытии тела А.Г. Гиляревского, который сводится, собственно, к констатации «асфикции, произведённой сдавливанием дыхательных путей через повешение» как причины смерти. Профессор судебной медицины д.м.н. Б.С. Свадковский в своём комментарии к этому акту позже отметит (как принципиально не существенное) «отсутствие… отдельных деталей трупных явлений, точной характеристики некоторых повреждений, отсутствуют также описания подъязычной кости, щитовидной железы и надпочечников и некоторые др.» (Смерть Сергея Есенина, с. 23–24).
На общий вывод эти детали не повлияли. Лицо не посинело — не указали. Язык не высунут [«рот сжат, кончик языка ущемлён между зубами» — Акт Гиляревского. Интересно, отчего же на всех фотографиях рот приоткрыт, и никакого прищемлённого языка не видно, как и отметил в своих воспоминаниях И. Оксёнов? — Д.Д.] — опустили.
Но вот тот же Н.Н. Браун запомнит и много лет спустя предаст огласке воспоминания дочери М.Л. Наппельбаума, делавшего знаменитые фотоснимки тела Есенина и всей комнаты, Иды Наппельбаум. Сын Михаила Соломоновича Лев (брат Иды), пришедший 28-го декабря с отцом в Англетер, рассказал сестре, «как помогал милиционеру, стоявшему на стремянке, снимать тело поэта с трубы отопления. Он был свидетелем того факта, что Есенин висел не в петле, как это бывает у самоубийц, а верёвка была несколько раз намотана вокруг шеи [курсив мой — Д.Д.]. Поэтому-то его тело и пришлось снять до прихода писателей — повешен он был [курсив мой — Д.Д.] уж очень неправдоподобно». (Браун Н.Н. «Есенин, казнённый дегенератами». Газета «Новый Петербург», 2006, 13 апр., № 14).
Вспомните Акт о смерти, составленный участковым надзирателем Н. Горбовым: «…шея затянута была не мёртвой петлёй, а только одной правой стороной шеи…».
Были и другие сомневающиеся. И если знаменитые слова Бориса Лавренёва: «И мой нравственный долг предписывает мне сказать раз в жизни обнажённую правду, и назвать палачей и убийц — палачами и убийцами, чёрную кровь которых не смоет кровяного пятна на рубашке замученного поэта» в статье «Казнённый дегенератами», написанной через два дня после гибели поэта, можно воспринять скорее как художественное обобщение, а не прямое обвинений в убийстве (скорее — обвинение в доведении до самоубийства), то письмо Зинаиды Райх не кому-нибудь, а самому Сталину 29 апреля 1937 года с такими словами: «Сейчас у меня к Вам два дела. 1‑е — это всю правду наружу о смерти Есенина и Маяковского. Это требует большого времени (изучения всех материалов), но я Вам всё, всё расскажу и укажу все дороги. Они, — для меня это стало ясно только на днях, — “троцкистские”. О Володе Маяковском — я всегда чувствовала, что “рапповские”, это чувствовала и семья его (мать и сестра). Смерть Есенина — тоже дело рук троцкистов, — этого я не чувствовала, — была слепа (многим были засыпаны глаза и чувства). Теперь и это мне ясно, но это требует такого большого такта и осторожности; у меня этого нет, — я хочу, чтоб “развертели” это Вы, ибо я одна бессильна. Я хочу, чтоб могила Есенина была не “святой могилкой с паломничеством”, чтоб на ней не стоял крест, поставленный его матерью, а стоял хороший советский памятник и чтоб дурацкая ошибка Бухарина со “злыми заметками” была исправлена, а “сожаление” Троцкого о “незащищённом дитяти” было разгримировано не как “истинная человечность”, а как “человечность политическая”.
Дорогой Иосиф Виссарионович, у меня очень счастливый “фасад биографии”, но это только фасад, и потому я в себе нахожу всегда много верных слов и чувств, которых лишены многие. Вас так бесконечно, бесконечно обманывают, скрывают и врут, что Вы правильно обратились к массам сейчас. Для Вас я сейчас тоже голос массы, и Вы должны выслушать от меня и плохое, и хорошее. Вы уж сами разберётесь, что верно, а что неверно. В Вашу чуткость я верю…» — уже громкий документальный факт неверия в самоубийство своего бывшего мужа. Очевидно, что это письмо ускорило и её собственную и не менее загадочную смерть летом 1939 года.
Да и мать Есенина Татьяна Фёдоровна не верила — иначе не заказывала бы панихиду по сыну рано утром 31 декабря, да и поп не верил — иначе не отслужил бы (по версии О.К. Толстой). Но и тут Прилепин бросает с авторского плеча: «Кому‑то из священников, может, не сказали, что покойный наложил на себя руки; кого‑то, может, уговорили». То есть — все знали в Москве и Ленинграде, кроме выисканных тёмных несведущих попов, не читающих газет и не знающих, о чём уже три дня только и судачит их паства. Ну или падких на вознаграждение, тем более рискованное, чем известнее покойник. Можно было запросто лишиться сана. Но тем не менее, кроме «несведущих и/или сговорчивых» священников в Москве и Ленинграде, в Казанской церкви села Константиново Есенина заочно отпел его духовный наставник протоиерей Иоанн Смирнов (крестивший Сергея во младенчестве), а в соседнем селе Федякино — священник Василий Гаврилов. Их, по Прилепину, тоже «уговорили».
То, что Есенин покончил жизнь самоубийством, было очевидно для всей его родни, для всех его коллег по ремеслу, для приятелей и товарищей, для наблюдавших за ним и любивших его поэзию, для вождей, наконец.
Никто из милиционеров, врачей, судмедэкспертов, фотографов, работавших в тот день, никогда письменно не зафиксировал никаких своих сомнений. При их жизни ни один их знакомый в разговорах с ними никаких сомнений не слышал и не записал.
В самоубийстве Есенина не сомневались Анна Изряднова, Зинаида Райх, Екатерина Эйгес, Надежда Вольпин, Галина Бениславская, Айседора Дункан, Софья Толстая.
Не сомневались его сёстры Катя и Шура.
В самоубийстве Есенина не сомневались позже и дети его: Георгий Есенин, Татьяна Есенина, Константин Есенин, Александр Есенин. (с. 857)
Список не сомневающихся там ещё весьма длинный, чуть не вся русская и зарубежная богема. Но о тех, кто не поверил официальной версии в момент её зарождения я уже упомянул выше. Это те, кто был в номере Англетера, когда поэт висел в петле. Они отказались подписывать акт о смерти — его подписали те, кто пришёл (был приглашён?) позже — около 2‑х часов пополудни — член Правления ленинградского отделения Всероссийского союза писателей критик Павел Медведев, секретарь Ленинградского Союза поэтов, Михаил Фроман [Фракман — Д.Д.], предшественник Фромана на этом посту поэт-акмеист Всеволод Рождественский (чётко отметивший почему-то цветные носки под лакированными туфлями покойника, а не чёрные, как в акте и других воспоминаниях) и примкнувший к ним (его подпись стоит ниже остальных) ответственный дежурный Первого дома Ленинградского Совета поэт-имажинист Вольф Эрлих, когда Есенин уже был снят с трубы отопления. Они вместе с неопытным участковым надзирателем Н. Горбовым, составившим полуграмотный акт вместо протокола (одни только «шея затянута не мёртвой петлёй, а только одной правой стороной шеи» [надо понимать, что конец верёвки шёл к трубе с правой стороны тела — Д.Д.] и «ширина борозды с гусиное перо» чего стоят), и дали ход официальному истолкованию смерти поэта. Заметим — не имея никакого официального права без врачебного осмотра на месте происшествия. И вслух уж говорили именно так, не зная наверняка, как было на самом деле — и оставались живы. Но не говорили — не значит, что верили. А кто знал, но молчал — потихоньку начали исчезать из текущей жизни разными способами
Напомним вкратце в хронологическом порядке.
1926 год:
— «самоубийство» секретаря правления Всероссийского союза писателей Андрея Соболя (его подпись стояла на членском билете Есенина) и активного члена президиума комиссии по похоронам Есенина. 7 июня 1926 г. Соболь «застрелился» в живот [единственный самострел такого типа в истории, нужно сказать], сидя на лавочке у памятника Пушкина на Тверской. Настоящего расследования, как и в случае с Есениным, никто не проводил. И так же, как в отношении Есенина — всё списали на депрессию и суицидальные наклонности.
— Самоубийство Галины Бениславской на могиле Есенина 3 декабря 1926 года. Посмертная записка сомнений в самоубийстве не оставляет: «Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого ещё больше собак будут вешать на Есенина… Но и ему, и мне это всё равно. В этой могиле для меня всё самое дорогое, поэтому напоследок наплевать на Сосновского и общественное мнение, которое у Сосновского на поводу», однако, по свидетельству подруги Бениславской — Я. Козловской, та, зайдя в комнату покойницы, увидела разбросанные платья, вываленные вещи — одним словом — явные следы обыска.
1929 год:
— Участковый надзиратель Николай Горбов 15 июня 1929 года был арестован и бесследно сгинул.
— Комендант «Англетера» Василий Назаров из-за финансовой недостачи в 1929 году попадает под суд. После «Крестов» отправлялся в разные лагеря, оказавшись в конце концов на Соловках. Назаров вернётся из заключения физически и морально сломленным человеком, несколько лет снова проработает в коммунальной системе на незначительных должностях, после уйдёт на завод.
1932 год:
Подписант Акта о смерти Есенина Георгий Устинов повесился при невыясненных до сих пор обстоятельствах в Москве, в Сокольниках в квартире № 16 дома № 3 по Большой Ширяевской улице. Предсмертная записка, если и была, исчезла. Сообщение о «безвременной кончине советского писателя» появилось в «Известиях» 14 декабря 1932 г. (№ 344. С. 4). В тот же день состоялась кремация.
1937:
Вольф Эрлих был арестован в Армении (командировка) 20 июля 1937 года по ордеру, выданному в Ленинграде, и переправлен в ленинградский Центральный Дом предварительного заключения, приговорён к расстрелу как «участник троцкистского подполья» Ленинграда по статьёй 58 ‑1а УК РСФСР 19 ноября 1937 года, 24 ноября 1937 года расстрелян.
1938:
13 марта 1938 года в Ленинграде арестован подписант Акта Н. Горбова, к тому времени уже видный профессор Павел Медведев, конфискован ценнейший архив и ряд рукописей. Расстрелян 17 июля 1938 года. Место захоронения тела неизвестно. Реабилитирован в 1956 году.
1939:
В ночь с 14 на 15 июля в своей квартире по Брюсовскому переулку 12 была убита многочисленными ударами ножом Зинаида Райх. Лучшей иллюстрацией трагедии может служить письмо её сына Константина Матвею Ройзману: «Всеволод Эмильевич [Мейерхольд — Д.Д.] был арестован 20 июня 1939 года. Мне было уже 19 лет. Я отлично помню всю эту „эпопею“ в мельчайших подробностях. Что касается смерти Зинаиды Николаевны, то хочу Вас, Матвей Давыдович, уверить, что „молва“ многое нанесла на это довольно просто объясняемое убийство. Не буду Вам об этом писать. Скажу только, что следствие по этому «делу» велось очень бестолково и бессистемно, сомневаюсь и в том, что оно было добросовестным. Ведь известно, что внутренними делами тогда ведал Берия, этим многое сказано… Насколько мне известно из весьма солидных источников, по делу матери были осуждены три совершенно между собой не связанные бандитские группы…».
И вот насчёт родни.
20 июня 1926 года поклонник есенинского творчества славист Андрей Дурново приехал в Константиново и записал за Татьяной Фёдоровной единственное из известных нам её стихотворений:
Тяжело в душе держать;
Я хочу вам рассказать,
Какой видела я сон,
Как явился ко мне он.
Появился ко мне сын,
Многим был он семьянин;
Он во сне ко мне явился,
Со мной духом поделился.
Он склонился на плечо,
Горько плакал, горячо:
«Прости, мама, – виноват!
Что я сделал – сам не рад!»
На головке большой шрам,
Мучит рана, помер сам.
Все мои члены дрожали,
Из очей слезы бежали:
«Милый мой Серёжа,
На тебя была моя надёжа,
На тебя я надеялась,
А тебе от работы подеялось.
Э, милый, дорогой,
Жаль расстаться мне с тобой,
Светик милый, светик белый,
Ты [покинул?] скоро нас.
Нам идти к тебе что рано,
Но ты приди ещё хоть раз.
Хочет сердце разорваться,
В глазах туманится слезой.
И прошу: полюбоваться
Дай последний раз тобой».
Сергей был, Сергея нет,
Всем живущим шлёт привет.
Привет вам, живущие. (с. 856)
Да, такое стихотворение было, оригинал письма А. Дурново с ним хранится в фондах РГАЛИ. Только там есть некоторые пояснительные вставки от самого Дурново. Например — после строки «Тужить рана, помер сам» стоит приписка — (Покончил жизнь самоубийством). Ну, это понятно. А вот после строки «А тебе от работы подеялось» — пояснение Дурново — «Умер от работы, заработался». Вот это уже не вполне понятно, если смотреть на Есенина глазами Прилепина. А если смотреть непредвзято — то это указание на гибель ЗА стихи. За всю поэтическую жизнь и славу во имя любимой Руси. И вторая поправка начисто отменяет первую, сделанную в угоду нерусской власти и вполне понятного страха перед ней. И не в смысле «уработался» (поэзия все ж не рудники), а именно от каких-то злых людей «подеялось» (сделалось, сталось — В.И. Даль).
Мать поэта Татьяну Фёдоровну хоронили в июле 1955 года в сыновней могиле. Но вместо гроба Есенина из-под земли показался какой-то другой, новый. Это крайне отчётливо (первая увиденная своими глазами смерть) запомнила племянница Сергея Есенина — Светлана, стоявшая рядом с матерью — дочерью поэта Александрой (Шурой) Есениной. Вот что рассказала Светлана Петровна:
«Моя бабушка, Татьяна Фёдоровна Есенина, умерла 03 июля 1955 года. Это была настоящий удар для меня. Первая в моей жизни серьёзная потеря. Все события, которые последовали за бабушкиной смертью, и сами похороны отложились в памяти в мельчайших деталях. Татьяну Фёдоровну отпевали в церкви на Ваганьковском кладбище. Её гроб при отпевании из особого уважения к усопшей стоял в Царских Вратах. Похоронили её рядом с сыном. Но я совершенно отчётливо помню, что слева, немного выше гроба бабушки, виднелся чей-то гроб, никаким образом не подходивший под описание и фотографии гроба, в котором похоронили Есенина — жёлтый, типичный для 50‑х годов. По его виду можно было предположить, что захоронение осуществлено не так давно». (газета «Вне закона» № 52 (574) 22 декабря 2008 г. «НЕ УМРУ Я, МОЙ ДРУГ, НИКОГДА». Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. / Ответ. сост. С.П. Есенина. Саратов, Ай Пи Эр Медиа, 2011).
Слухи, о том, что в могиле Есенина гроба Есенина нет, ходят так же давно, как слухи о его убийстве, вернее на четыре дня меньше — с последнего дня 1925 года (а не с 80‑х годов с подачи Василия Белова — человека «сознания косматого, буреломного, клубящегося…» — по Прилепину. Надо ж эдак выразиться. Зато великий Белов заявлял по поводу выводов комиссии Ю.Л. Прокушева о доказанном самоубийстве Есенина: «Примеры нашей трусости можно приводить бесконечно, даже в стенах Института мировой литературы». Вот это гораздо ближе к «клубящемуся» сознанию самого Прилепина).
Но если заметила 16-летняя девочка, то её мать — любимая младшая сестра поэта Шура — что, не заметила подмены? Как вы это представляете? Заметила, конечно, но молчала. И заказала дочери болтать — времена и в ту годину были неразговорчивые. И только 4 января 1994 года Светлана Петровна напишет официальное письмо в комиссию Всероссийского комитета по выяснению обстоятельств смерти Есенина на имя её председателя Ю.Л. Прокушева, где прямо укажет, «гроб матери поэта оказался не над могилой сына, а рядом с неизвестными останками… точное место его могилы теперь установить будет очень нелегко». Письмо подписали сын Светланы Петровны И.О. Митрофанов и племянник С.А. Ильин. Но… что думал по поводу этой комиссии Василий Белов — см. выше.
Та же Светлана Петровна в том же интервью утверждает: «Когда Наседкин привёз гроб в Москву, он пришёл домой и сказал: „Сергея убили“». Это сохранилось в семье, это семейное предание, а не досужие домыслы.
Есть и другие воспоминания. Двоюродная сестра Софьи Толстой Наталья Михайловна Дитерихс, дочь белогвардейского генерала Михаила Константиновича Дитерихса, взяла трубку на звонок из Ленинграда 28 декабря 1925 года. Мужской голос попросил к телефону Софью Андреевну. Наталья Михайловна рассказала писателю Григорию Калюжному: «после услышанного Соня побледнела и упала в обморок. Придя в себя, она проговорила: „Сергея застрелили“».
Далее (с. 831) приводится подробная реконструкция последних минут поэта.
Закрыл дверь изнутри, оставив ключ в замке.
Ну, допустим.
В ночь на 28 декабря так и не ложился.
Но при этом сидел в темноте — в протоколе опроса Эрлиха приводятся его показания: «…вошла Устинова, за ней вошёл я, не видя ничего, в кабинете на кушетку бросил свою верхнюю одежду и портфель…» (Смерть Есенина, 166). И это в половину одиннадцатого утра.
У потолка проходила труба парового отопления.
Он её заметил в первый же день.
Как не заметить, тем более их было две. Назаров в протоколе даже уточнил, что «увидел граж. Есенина висевшем в переднем правом углу на верёвке, привязанной к входящей [переправлено с «исходящей» — Д.Д.] трубе центрального отопления». А ведь переправлено не случайно — именно входящая труба обязана быть горячей, обратный контур намного холоднее — это вам скажет любой сантехник. Если бы не необходимость объяснить все впадины и борозды на лбу ожогом, не было бы вообще никакой нужды уточнять характеристику контура. И тем более исправлять написанное. Здесь — исправленному — не верить!
Труба была высоко.
Это просто неграмотно — трубы были вертикальные и гладкие во всю длину. На фотографиях 5‑го номера точно изображены эти трубы (на фотографиях М. Наппельбаума не видна верхняя часть обеих труб и место входа их в потолок, и сам потолок тоже) до самого их входа в потолок — они совершенно гладкие и ровные. Утолщения на них есть только в 1,5 метрах от пола, что почему-то замечает г‑н Прилепин в пользу версии самоповешения, хотя на этой высоте по акту Горбова висели ноги погибшего («ноги от пола были около 1,5 метров»)
Есенин придвинул туда стол.
Выстроил себе пирамиду из подходящей мебели.
Вот по вышеуказанному описанию труб, чтобы удавиться, не было нужды залезать под потолок так, чтобы ноги висели в полутора метрах от пола — там не было изгибов, утолщений или отводов. Не было нужды и строить какую-то неустойчивую пирамиду из «подходящей мебели». Подходящая мебель — это был бы стул на столе, хотя и стола было бы достаточно — с него с таким же непростым успехом можно было зацепиться за гладкую трубу метром ниже — спокойно стоя на столе, стоявшему не вплотную к стене, а под углом, встать на край, затягивая верёвку «правой стороной шеи» и сделать шаг вперёд.
Снял с чемодана верёвку.
На чемоданах нет верёвок. Есть ремни. Но не такой длины, чтобы соорудить удавку для повешения на такой высоте. Но верёвки никто не видел, в акте Горбова она не указана вообще. Хотя странгуляционная борозда (одна из двух) явно носит следы плетения — это явно не ремень, к ремню подходит вторая полоса — гладкая (см. фотографию № 4 в фотоприложении).
Перед тем как повеситься, сделал неглубокий надрез локтевого сухожилия правой руки.
Вчера на левой пробовал — ничего, терпимо. Тем более после трёх бутылок пива и всего выпитого с утра, вчера, позавчера…
«Неглубокий надрез» — это, согласно Акту вскрытия Гиляревского, «кожная рана с ровными краями длинной 4 сант.». Глянь читатель, на фотографию № 4 приложения и сам оцени степень глубины «надреза» и ровность его краёв. Да и зачем, собственно, «надрезать»? По версии Эрлиха-Устинова-Прилепина поэт уже написал кровью «предсмертное» стихотворение накануне утром. Ни одной новой строчки кровью или чернилами не найдено — ничего не писал и не собирался. Тогда зачем? Раны не смертельные, «не проникают в толщу кожи» (Акт Гиляревского). И на левом предплечье не один надрез, а целых 4 раны, 3 из которых вертикальные! Это проба такая? И после неё «неглубокий надрез», который на самом деле является «кожная рана с ровными краями длиной 4 см» (Акт Гиляревского). И насчёт выпитого — «в желудке около 300 к.с. полужидкой пищевой смеси, издающей нерезкий [курсив мой — Д.Д.] запах вина». Так что с утра Есенин не пил, а что там было вчера или позавчера — всё давно растворилось в крови и какого-то обезболивающего эффекта никак произвести не могло. А вот г‑н Прилепин похож на дотошного инспектора ГИБДД, желающего сорвать себе в карман штраф с водителя, не желающего дуть в трубочку. Вчера-сегодня употребляли, гражданин? А позавчера? Нет? А если подуть?
Хуже, чем на душе, всё равно ничего нет.
Есть. Эта книга Прилепина «Есенин. Обещая встречу впереди».
Порезал — то ли чтобы наверняка, от общего остервенения и торопясь поскорей сбежать; то ли хотел ещё что‑то написать и не стал, раздумал.
Рука кровоточила, но не сильно.
Смотри выше.
Чертыхаясь, полез наверх, уверенный в себе, как ребёнок.
Вот читаешь эту клюкву и уже не чертыхаешься. Материшься. И Есенин бы матерился, прочтя про себя такое — полез вешаться, «уверенный в себе, как ребёнок».
Кружилась голова, тошнило.
Но не вырвало же. Почему же тошнило? От водки — так не пил, полдюжины бутылок пива — пустяк. От потери крови, так сам же пишет — «кровоточило, но не сильно».
Надо было торопиться.
Ну, куда — понятно. Но зачем? До рассвета далеко. Боялся передумать? Боялся, что помешают среди ночи? Боялся к Богу опоздать? Но, как известно, «В гости к Богу не бывает опозданий» (В.С. Высоцкий). Остаётся надеяться, что Высоцкого Прилепин не тронет.
Забрался, перекинул верёвку через трубу, затянул.
Посмотрите фотографии комнаты № 5, г‑н Прилепин (см. выше). Там ничего не перекинешь, не виселица, чай. Там какой-то нехилый узел НА трубе нужно было вязать, чтобы по абсолютно гладкой поверхности не соскользнул вниз.
Другой конец — на шею.
Тогда уж — вокруг шеи. Два раза. Как шарф. Лень было петлю нормальную делать? Или «торопился»?
Толкнулся ногами.
Услышал грохот.
О, Господи!
Всё.
Всё… всё это годится только для бульварных романов. Сразу виден профессиональный сочинитель. Какая-то мариенговщина.
Попутно возникают мелкие вопросы.
То есть, не будем размениваться на крупное (авторский афоризм). Тем более, крупных ещё осталось с избытком. Ввиду ограниченности места (а для мелких его вообще нет) возьмём только три.
Вопрос первый.
Вы когда-то видели или от кого-то слышали, что при принудительном открытии номера в гостинице её комендант (дежурный по этажу, охрана) в номер не входит? — Откройте комнату, там жилец (уже не жилец — Д.Д.) известный поэт Есенин, я не могу достучаться — сообщает «тётя Лиза» (Елизавета Устинова) коменданту Назарову — дайте мне ключ (Из протокола опроса В.М. Назарова) Рядом стоит Вольф Эрлих и кивает — стучим, стучим, а он не открывает, давайте вскроем дверь. Назаров поднимается с ними к номеру, открывает замок «с большим усилием, так как ключ торчал с внутренней стороны» то ли отмычкой, то ли запасным ключом и… «я пошёл» (Из протокола опроса В.М. Назарова — «Смерть Сергея Есенина, 166). Как можно такое представить в принципе? Как можно в номер пустить чужих людей и не посмотреть, что с хозяином? А если из номера что-то пропадёт? А если жильцу нужна помощь — ведь не могли достучаться? Даже коридорный так бы не поступил, тем более целый комендант. Очевидно — знал, что помощь уже не потребуется, но не хотел быть официально первым, кто это обнаружит. А если мы упомянем, что по воспоминаниям его жены Антонины Львовны (урождённой Цитес,1903–1995) Назарова срочно вызвали в Англетер вечерним звонком 27-го декабря и вернулся он только утром следующего дня (!), то удивляться уже не приходится. И ключу, вставленному изнутри — тоже. Выйти, закрыв номер, можно было и через смежную комнату, наличие которой (вход за шкафом) в то время точно установлено. Подробнее отсылаю к подробному труду Виктора Кузнецова «Тайна гибели Есенина» (М., «Современник», 1998).
Любопытные возражения Прилепина по поводу воспоминаний жены Назарова: «Надо сказать, что Назарова в 1925 году, по собственному признанию, поэзии Есенина не знала, а открыла её лет на тридцать позже. То есть в 1925 году Есенин интереса у неё вызвать не мог — ну Есенин и Есенин.
Тем не менее запомнила.
Взрослые люди, конечно, понимают, что можно перепутать даже события недельной давности, десятилетней — тем более, а про 70 лет даже говорить как‑то совестно». (с. 876)
Взрослые люди… вот взрослый человек Виктор Кузнецов стенографически точно передаёт собственный разговор с Назаровой, в том числе, по поводу возможной ошибки памяти:
— Когда вы узнали о смерти Есенина?
— Как все, двадцать восьмого декабря, — отвечает седая женщина, — но тому грустному известию накануне, двадцать седьмого декабря, в воскресенье, предшествовал незабываемый для меня вечер. Примерно в двадцать два часа в нашей квартире раздался телефонный звонок. Я читала какую-то книгу, а мой муж, Василий Михайлович, прилёг отдохнуть. Звонивший представился дворником гостиницы «дядей Васей» и просил немедленно позвать управляющего. Я заупрямилась, сказав: нечего беспокоить мужа по всяким пустякам. Но «дядя Вася» заставил меня его разбудить, и он подошёл к телефону…
— Когда ваш муж вернулся домой после того, как внезапно отправился на службу поздно вечером, двадцать седьмого декабря? — задаём Антонине Львовне не совсем деликатный вопрос.
— Он вернулся домой лишь на следующий день и рассказал о происшествии, даже говорил, что снимал с петли тело Есенина.
— Он это делал один или кто-то помогал ему?
— Мужу помогал Цкирия Ипполит Павлович, коммунальный работник. Так ли это было на самом деле — не знаю, но что упоминалась эта фамилия — ручаюсь. Цкирия бывал в нашей квартире — весёлый, высокий грузин, любил шумную компанию и кахетинское вино.
…….
— Но почему воскресный вечер, двадцать седьмого декабря, вам так хорошо запомнился? Не подводит ли вас память [выделено мной — Д.Д.]?
— Ни в коем случае, — возражает Антонина Львовна. — Только теперь я понимаю: мужа вызывали именно в связи с есенинской историей. По долгу службы он не открыл мне тогда правды и промолчал до смерти. Тот тревожный вечер я не забуду никогда. Василий Михайлович обычно приходил с работы вовремя. Такой порядок сохранялся и когда он исполнял в тысяча девятьсот двадцать четвёртом — тысяча девятьсот двадцать пятом годах обязанности ответственного дежурного коменданта в привилегированной гостинице «Астория» (её в тысяча девятьсот двадцать пятом году пышно называли «первый Дом Советов»). Незадолго перед трагедией с Есениным скончался наш трёхлетний сынишка — в нашей семье ещё болела своя горькая рана. В то время мы жили дружно и ни тени сомнения у меня не существовало». (Виктор Кузнецов. Тайна гибели Есенина: По следам одной версии. Москва: Современник, 1998).
Если «седая женщина» отметает возможность ошибки памяти и сообщает сопутствующие детали, в том числе имена помощников мужа, то литературным ребячеством, очевидно, занимается сам г‑н Прилепин. И даже если Назарова не читала Есенина, не знать человека, о смерти которого наперебой писали ВСЕ выходящие на тот момент газеты Советского Союза и многие по миру, она не могла. «Ну Есенин и Есенин…». Ну Прилепин и Прилепин — так будет точнее.
Вопрос второй.
Выражаясь прилепинским же языком (концепция убийства держится на пяти «фактах») концепция самоубийства держится всего на одном факте (кроме не вызывающих доверия актов судебно-медицинской экспертизы Гиляревского и последующих её профессиональных интерпретаций) — это якобы предсмертное письмо якобы посвящённое и отданное Есениным Вольфу Эрлиху 27-го декабря. Об этом мы знаем со слов самого Эрлиха: «Сергей нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи. Затем говорит, складывая листок вчетверо и кладя мне в карман пиджака:
— Это тебе. Я ещё тебе не писал ведь? Правда… и ты мне тоже не писал!
Устинова хочет прочитать. Я тоже. Тяну руку в карман.
«Нет, [Вова], ты подожди! Останешься один — прочитаешь. Не к спеху ведь!». (Из письма В.И. Эрлиха В.И. Вольпину. Материалы, 260).
Этот факт упомянули Е.А. Устинова (почти дословно) и с существенными отличиями П.Н. Лукницкий («Потом Есенин вынул из внутреннего кармана пиджака [а не вырвал из блокнота — Д.Д.] листок бумаги и засунул его во внутренний карман Эрлиха. Тот поднял руку, хотел вытащить и прочесть. «Брось, не читай… Успеешь!» — с улыбкой сказал Есенин. Эрлих не стал читать и забыл о бумажке — забыл до следующего дня, когда в гостинице у тела Есенина Устинов ему напомнил о ней. Эрлих вынул из кармана и прочёл написанное кровью стихотворение „До свиданья, друг мой, до свиданья“». – РГАЛИ, ф. 2813, оп. 1, ед.хр. 15) и П.А. Мансуров («А Эрлиху он дал уже раньше написанное стихотворение на клочке бумаги и говорит: «Ты сегодня этого не читай, прочти завтра. И сунул ему в карманчик пиджака для платочка [а не во внутренний карман — Д.Д.]». Причём Мансуров точно заходил к Есенину 25-го декабря и уже только предположительно 27-го). В поздних воспоминаниях Эрлих откажется от посвящения стиха ему, но суть не в этом. Как предсмертное письмо или записка — в виде стихотворения или в любом другом виде могло оказаться не подшитым к материалам дела о самоубийстве? В нашем случае — дела № 89 о самоубийстве поэта Сергея Александровича Есенина? Ведь Эрлих по воспоминаниям того же Лукницкого «забыл о бумажке — забыл до следующего дня, когда в гостинице у тела Есенина Устинов ему напомнил о ней. Эрлих вытащил из кармана и прочёл написанное кровью стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья». И что дальше? Вот мёртвое тело «повесившегося», вот участковый пишет протокол, вот предсмертная «бумажка» — и как же Эрлих не отдал её милиционеру? Забыл в состоянии аффекта? Но аффекта и вообще нервозности у Эрлиха и в помине не было: «Тут же с видом своего человека сидел Эрлих.» (из дневника И. Оксёнова).
Это вообще-то сокрытие важнейших улик. Как и с ненайденной верёвкой. Или это не улика — то есть не предсмертное и не прощальное стихотворение. Появившись в печати 29 декабря 1925 года в вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» с неизвестно откуда взявшейся датой — 27 декабря 1925 г. и расхождением в строчках с оригиналом. Стихотворение опубликовал в статье «Сергей Есенин и его смерть» (очевидно, через жену — ответственного секретаря «Красной газеты» Устиновой (Рубинштейн) Елизаветы Алексеевны — «тёти Лизы») — тот же Георгий Устинов. И только через 5 лет — в 1930 году эту «бумажку» со стихотворением передал в Пушкинский Дом «красный Белинский» — недоброжелатель Есенина критик и литературовед Георгий Ефимович Горбачёв, в ту пору заместитель директора Института новой русской литературы (ИНЛИ). Ему, в свою очередь, автограф передал малоизвестный литератор Владимир Измайлов. Как автограф, может быть, самого известного стихотворения последнего века мог попасть к тому Измайлову — Бог весть. Но он должен был попасть в дело № 89, к народному следователю 2‑го отделения г. Ленинграда Д.И. Бродскому вместе со второй доверенностью Есенина на получение 640 рублей на имя Эрлиха (доверенность Эрлих предъявил Горбову, а «предсмертное» стихотворение — отчего-то не стал предъявлять). Ан нет… Не прощальная это записка, не предсмертное стихотворение, написанное Есениным неизвестно когда и неизвестно кому. И как можно представить, чтобы самый знаменитый русский поэт вешался без эффектного последнего жеста (типа лакированных ботинок — по Прилепину), а что может быть эффектней прощального стиха? Биограф тоже согласен:
Нужно ещё лучше сочинить, точнее.
Эти — пока ещё жалостливые, человеческие.
А надо, чтобы от человека ничего уже не осталось.
И лучше такой улики «самоубийства» просто не представить. Но не было улики… потому что не было никакого стихотворения у Эрлиха ни в тот день, ни накануне — все это поздняя легенда, сочинённая приглашёнными «свидетелями». Или наоборот — было, но задолго до трагедии в Англетере. И потому в качестве приобщаемой улики не годилось — установить если не дату, то примерный срок написания, экспертиза могла уже и тогда совершенно определенно. И выяснилось бы, что написано не накануне смерти, а после смерти — но не своей, конечно, а того, кому было реально посвящено.
У Владимира Паршикова, интервьюировавшего уже ушедшую от нас племянницу великого поэта — Светлану Петровну Есенину — приводится интереснейшие воспоминания исследователя жизни и творчества Есенина Сергея Чугунова, касающиеся этого легендарного восьмистишия: «В 1991 году… Сергей Чугунов получает от своего товарища Макова ценные сведения, касающиеся истории создания “До свиданья, друг мой, до свиданья… “». Он пишет: “Хочу поведать тебе одну тайну. Так вот: 17 или 18 августа 1951 года я со своей художественной студией плавал на пароходе в село Константиново. Зашли в домик Есенина. Посидели за есенинским столом, а его мама Татьяна Фёдоровна рассказала о жизни сына. И вот она взяла со старого комода, по-моему, небольшую книжку и вынула из неё стихотворение “До свиданья, друг мой, до свиданья.”, написанное на посеревшей бумаге карандашом, а не кровью, как утверждают некоторые. Там было много исправлений — я убеждён, что это оригинал Есенина. Татьяна Фёдоровна сказала, что это стихотворение Сергей написал в последний приезд в Константиново в сентябре 1925 года, посвятив его кому-то из умерших друзей-поэтов. Мать Есенина тогда уверяла, что это истинная правда — стихотворение написано задолго до его трагической смерти; она утверждала, что «Серёженьку убили „злые люди” и даже заплакала!» К вопросу, верила ли Татьяна Фёдоровна в смерть сына.
Задолго до смерти… Если оно посвящено памяти расстрелянного в марте того же года Алексея Ганина, то понятно, почему Есенин его не публиковал даже без посвящения — он сам уже ходил под топором. Или посвятил, да кляксой замазали…
Вообще, все нестыковки с Есенинскими записками, доверенностями Эрлиху, противоречиями в показаниях свидетелей последних часов последнего дня поэта, факты наличия второй двери в 5‑й номер, странностями с якобы посмертным кровавым стихотворением Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья» и т.п. максимально подробно и документально (а не догадливо, как у г‑на Прилепина) описаны в статье Н. Астафьева «Трагедия в Англетере: действующие лица и исполнители» (Журнал «Невский Альманах» № 3 (82), 2015), а также в статье Ст. и С. Куняевых «Что мы знаем о финале жизни поэта» (Журнал «Наш современник». № 12, 2020), к которым я отсылаю читателя. Повторять их здесь нет необходимости. Нелепости медицинских заключений и последующих экспертиз очень подробно и аргументированно изложены в труде В.К. Фомина: «Софизм Гиляревского» — никакие прилепины не смогут их отменить.
Вопрос третий.
Из заключения экспертов бюро судебно-медицинской экспертизы Главного медицинского управления г. Москвы, данного по фото комнаты следует, что:
«1. Высота потолка номера 5 гостиницы «Ленинградская» (ранее «Англетер») на представленной фотографии составляет не более 352 см.
2. Человек ростом 168 см при наличии подставки высотой 150 см может прочно закрепить витую (пеньковую, хлопчатобумажную, шёлковую) верёвку диаметром 0,6–1,0 см на вертикальной гладкой стальной (окрашенной масляной краской) трубе диаметром около 3,7 см на высоте около 358 см.
(Смерть Сергея Есенина, 157–158)
Оставим на совести экспертов возможность «прочно закрепить витую верёвку… на вертикальной гладкой стальной трубе», сейчас речь о другом. С этими трубами постоянная путаница — то ли они в левом углу, то ли в правом, то ли фотография Наппельбаума зеркальна, то ли нет. Это крайне важно, но позиция труб все время определяется относительно месторасположения фотографа. Автор предлагает определять её единственно разумным и естественным способом — относительно входных дверей и мебели, расположение некоторых предметов которой зафиксировано документально. («Направо от входа, на низкой кушетке [курсив мой — Д.Д.], лежал Сергей…». Из дневника И.А. Оксёнова, 229–230)
«Справа от входной двери [курсив мой — Д.Д.], на полу, рядом с диваном [кушеткой — Д.Д.], лежал неживой Есенин». (Браун Н. О Сергее Есенине. Из воспоминаний — Ж. «Москва», 1974, № 10). Эта кушетка прекрасно видна на фотографиях с трупом Есенина (фото 1) и сделанных несколько позже, по просьбе С.А. Толстой в начале 1926 года. Злосчастные ж трубы находились точно наискосок от кушетки и напротив кровати — через шкаф (закрывающий занавешенный портьерой вход в смежный номер) — то есть в левом углу от входа в комнату. Для упрощения навигации — где шкаф, там и трубы (см. фото 3). При этом на фотографии ясно видно, что трубы расположены по той же стене, что и окно. А из этого с железной необходимостью вытекает невозможность повешения на самой левой — угловой — трубе, какая бы она ни была — входная или выходная. Но единственный вариант — правая (входящая по мысли Горбова) труба должна была оставить такие же «ожоги» на «держащейся за неё» правой руке, как и на челе поэта. Ни держаться за левую трубу, ни повеситься на ней физически невозможно (нет места, да и руки для завязывания узла не просунешь) — тело могло висеть только на трубе, ближней к окну. Учитывая, что странгуляционная полоса много сильнее проявилась «правой стороной шеи», что прекрасно видно на фото 4 и 5, то есть в месте наибольшего давления, удавка шла вверх от левой стороны, склонив голову поэта направо, где-то на 50–60 градусов. Но борозда на лбу, хоть и идёт справа вверх — не от ожога об трубу, потому что похожий ожог был бы и на правой руке, но его не оказалось. К тому же, если бы Есенин вешался на правой трубе, за которую якобы и схватился в последний момент, то локоть правой руки был бы выдвинут вперёд, а кисть располагалась бы над головой, а не у шеи. Инстинктивно Есенин бы подтянулся правой рукой, чтобы ослабить петлю, а не потянулся бы к горлу. Такое положение руки возможно только, если пытаешься освободиться от удавки, которой тебя душат сзади.
Вместо заключения.
В конце своей распиаренной книги г‑н Прилепин классифицирует по типам (как классифицируют душевнобольных) противников версии самоубийства Сергея Есенина и, соответственно, своих противников:
Сторонники, как правило, просто абсурдных, зато крайне навязчивых версий убийства Есенина делятся на несколько основных типов. Люди глубоко и безоглядно религиозные, которые любят Есенина и от всей души хотят, чтобы он попал в рай.
Люди политически ангажированные, а если точнее — маниакальные антисоветчики, которые годами коллекционируют прегрешения советской власти, собирая и неустанно складируя и реальное, и мнимое. В их обширных концепциях, помимо всего прочего, развесистого и витиеватого, Есенин ненавидел советскую власть и втайне боролся с ней не на жизнь, а на смерть.
Люди с иными известными убеждениями, но складирующие уже не столько (или не только) преступления советской власти, но случаи иудейских преступлений против человечности и конкретно против русского народа. В этом контексте Есенин выступает в качестве ритуальной жертвы, наряду, скажем, с Николаем II.
Следующий тип — женщины, откровенно влюблённые в Есенина и охраняющие его имя от злых наветов. Их Серёжа должен быть хорошим. А кто против, тому глаз вырвем. В данном случае в качестве людей, погубивших Есенина, могут дополнительно выступать отдельные его спутницы или их разные, зачастую неожиданные комбинации. Кто-то специализируется на неприязни к Берзинь, кто-то — к Бениславской; кому-то не нравятся все еврейские подружки сразу: от них порча пошла и печаль.
Случаются также причудливые смешения всех перечисленных вариантов.
Наконец, имеются литературные профессионалы, отчасти ставшие заложниками когда-то выдвинутой версии. Яркий пример — отец и сын Куняевы, в душе, думается, допускающие, что Есенин покончил жизнь самоубийством, но не могущие уже отказаться от итогов своих многолетних розысков. Столько сил потрачено! Что же теперь — заново начинать?
Порой в убийство Есенина верят образованные и психически уравновешенные люди, просто не очень подробно знающие его биографию и только в общих чертах знакомые с его поэзией. (с. 859)
Вот «метод Марченко» в действии — «…если они, конечно, функционально грамотны, т.е. способны не заучивать с голоса чужого выводы, а следить за ходом авторской мысли…». Вот и автор данной статьи, входящий в последнюю группу «функционально неграмотных», но грамотных литературно и исторически, призывает читателя не заучивать с чужого, я бы сказал, чуждого, прилепинского голоса надуманные и подогнанные под заказные выводы о самоубийстве великого национального русского поэта. Так плохой следователь подгоняет все выявленные улики под свою единственную версию, при этом улики, опровергающие её, просто опускает или признает ничтожными, о которых «даже говорить как‑то совестно».
Ключевым свидетелям, свидетельствующим не то, что хотелось бы «литературному следователю», всё либо «примнилось», «можно перепутать даже события недельной давности», «почти наверняка не было этого ничего, потом сочинил» (о рассказе Клюева о визите в Есенинский номер, где, по его словам, по-свински кутили дружки поэта, вытолкавшие его, Клюева, взашей и не давшие снять одеяло с некоего храпящего на диване человека), несёт околесицу (о воспоминаниях Брауна-младшего) и т.д., а сомневающимся вслух в профессиональной добросовестности «следственного отдела» конечно же «шепнул кто‑то лукавый на ухо». Или ещё короче — «фантазии взрослых взволнованных людей» (об Э. Хлысталове).
Ко всему прочему, книга изобилует неточностями, грубыми ошибками и натяжками. Вот только некоторые примеры прилепинских нелеп:
С. 11 — Аграфена Есенина и Федор Андреевич Титов разругались ещё до свадьбы Сергея и Татьяны: не сошлись в приданом. Вообще-то — до свадьбы Александра и Татьяны – родителей Сергея Есенина.
С. 50 — по донесению филёра, заходил в колониальную лавку и мясную лавку Крылова, «домой вернулся уже с отцом». Но он же жил у отца в квартире на Строченовском пер. 24?
С. 54–55 — из переписки с Марией Бальзамовой (1914 г.): «Таланта у меня нет, я только бегал за ним», «Моё я — это позор личности. Я выдохся, изолгался, и, можно даже говорить, похоронил или продал свою душу чёрту за талант. Если я буду гений, то вместе с этим буду поганый человек». И снова подводка к мотиву суицида: «…мы видим именно то, что Есенину было ясно накануне зимы 1913/1914 года и станет ещё более ясно в декабре 1925-го».
С. 56 –– Глядя на всё, написанное Есениным в 1910–1913 годах, можно сказать лишь одно: молодой сочинитель не развивался вообще.
Вы это серьёзно, г‑н сочинитель?
Посмотрим… 1910 год:
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари…
1912 год — первая версия такой «неразвитой вещи», как «Песнь о Евпатии Коловрате»:
За поемами Улыбыша
Кружат облачные вентери.
Закурилася ковыльница
Подкопытною танагою…
Вспоминается клюевское: «Не с коловратовых полей// В твоём венке гелиотропы…».
Тем же годом:
Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха…
Не говоря уже о «Поэте» («Тот поэт, врагов, кто губит»), «Задымился вечер, дремлет кот на брусе», «Матушка в Купальницу по лесу ходила» — на эти и другие шедевры 1912 года сложены песни, исполняющиеся по сей день.
Справедливости ради следует сказать, что этими годами (1911–1912) датируется слабейшее стихотворение Есенина «К покойнику»:
…
Покойся с миром, друг наш милый,
И ожидай ты нас к себе.
Мы перетерпим горе с силой,
Быть может, скоро и придём к тебе.
Но любого художника нужно судить по лучшим произведениям, тем более такого, как Сергей Есенин. И если мы можем сравнить — то, как не заметить развитие — нет, практически взлёт Есенинской музы именно в эти годы? *
С. 138 — Есенин будет утверждать, что его Зина еврейка.
Ну и правильно утверждал, хотя З.П. полууверенно сие опровергает. Зинаида Николаевна Райх — (актриса ГОСТИМа (Государственного театра имени В.Э. Мейерхольда) с 1923 по 1938 гг. и жена Мейерхольда с 1922 года. Исполнительница центральных ролей в его спектаклях того периода) — галахическая еврейка по бабушке.
— С. 202. Уроженец Нижнего Новгорода, переехавший с отцом в Пензу, а оттуда явившейся в Москву, 21-летний Мариенгоф к тому времени был автором в лучшем случае двух-трёх десятков стихов — впрочем некоторые из них были шедеврами…
Вот какие «шедевры» «Мерингофа» знает читатель вообще? И тем более, написанных к 21 годам? Да никаких. Так г‑н Прилепин продвигает своего любимца «великолепного Мариенгофа» за счёт Есенина.
С. 216 — …с Зиновьевым выступил на открытии памятника Кольцову (ноябрь 1918‑го).
Вообще-то с Каменевым, а не Зиновьевым. Нерадивые у Вас помощники, г‑н Прилепин.
С. 299 — Приговорённый к пожизненной каторге за экспроприации [Махно — Д.Д.].
Махно неоднократно арестовывался, в том числе за «эксы», но осуждён на смертную казнь через повешение (март 1910 г.) был за убийство чиновника военной управы. Смертную казнь заменили бессрочной каторгой (ввиду несовершеннолетия, по легенде мать Махно записала его годом позже). Каторгу отбывал в Бутырской тюрьме вплоть до мартовской амнистии 1917 года.
С. 319 — 322–377–389. Григорий Колобов (319) написан как Коробов (с. 322, 377), известный под кличкой «Почём соль».
С. 326–327. — «Пугачёва» поставят на Таганке с молодым Владимиром Высоцким в роли Хлопуши (да‑да, он кричит: «Пр‑р‑роведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!»). Интермедию сделает бывший имажинист Николай Эрдман, но Высоцкий по просьбе режиссёра Любимова допишет в есенинский текст несколько строф.
Высоцкий допишет — но не в есенинский текст, а дополнительно к нему, несколько стихов — «как мужики соображали на троих». Эрдман допишет для спектакля несколько интермедий, из которых разрешили к постановке буквально несколько фраз. Премьера, приуроченная к 50-летию Октябрьской революции, с огромным успехом состоялась 17 ноября 1967 года.
С. 360 — цитируется стих Клюева 1921 года:
И груз «Кобыльих кораблей» —
Обломки рифм, хромые стопы.
Не с коловратовых полей
Их поливал Мариенгоф
Кофейной гущей с никотином.
От оклеветанных голгоф —
Толпа к иудиным осинам…
Клюев здесь, видите, предсказывает, что Есенин повесится… А Клюев был великий поэт и даром воздух языком не переламывал.
Увидеть здесь предсказание того, что «Есенин повесится» может только слепо ангажированный биограф, допускающий чудовищные натяжки ради своей основной задачи — доказать самоубийство национального поэта. Или Есенин — Иуда среди подобных?
С. 656–657. На прощании, устроенном в Доме Герцена — особняке, отданном Всероссийскому союзу писателей, — Есенин увидел Приблудного и вдруг закричал: «Ты! Ты! Почему ты не пришёл к нему, когда было нужно? Чего ты на похороны явился?».
Это был не только о Ширяевце крик, но и о себе тоже. И смысл его прост: когда я наемся таблеток или полезу в петлю — тебя тоже рядом не окажется?
Это даже не очередная неловкая натяжка — пустая догадливость и безыскусная манипуляция.
С. 829. Есенин долго расспрашивал Устинова, как тот вышел из своих передряг.
Тот расспросил Есенина о его любовях.
Есенин расплакался.
Устинов, как мог, успокаивал его.
Потом записал: «Есенин был совершенно трезв».
Трезвость эта, впрочем, могла быть обманчивой: после многодневного запоя случается вдруг такой день, когда человек с полностью ошпаренным мозгом и отравленными внутренностями вдруг приобретает необычайную ясность сознания, будто организм вбрасывает последние ресурсы, чтобы восстановить равновесие.
На самом деле это пик запоя, сползти с которого — адский труд.
Внутри этой обманчивой трезвости таятся неслыханные кошмары и бурлит чёрное в душе.
Вот это мне больше всего понравилось — «обманчивая трезвость». Уж не знаю, с какого пика запоя сползал биограф, ему виднее, но «адский труд» оказался напрасным.
С. 996. Сестра Есенина Катя вышла замуж за Василия Наседкина в том самом декабре 1925 года, 19-го числа. Ей было 20 лет, и Наседкин был её вторым, после Ганина, мужем…
То есть у Сергея Есенина было последовательно аж два зятя по Кате. Этот факт непостижимым образом укрылся от всех есениноведов России и мира, кроме г‑на Прилепина.
И так далее, и тому подобное по всей такой толстой и, на первый взгляд, солидной книге. Н.С. Арцыбашев писал в письме Д.И. Языкову по поводу «Истории государства Российского» масона Н. Карамзина: «…безобразное смешение посторонщины, недоказательности, безразборности, болтливости и преглупейшей догадочности!» Точно те же выражения можно отнести к книге г‑на Прилепина «Есенин. Обещая встречу впереди».
Очевидно, что данная статья попадёт в разряд «есенинское dead‑фэнтези — пристанище профессиональных русофилов» — по циничному определению биографа-манипулятора. Остаётся только конгруэнтно ответить — вся книга гражданина Прилепина — это ловкое и округлое «suicide-фэнтэзи», тем лживей, чем аргументированней кажется.
©Дмитрий Дарин, 2023.
ФОТОПРИЛОЖЕНИЯ:
Фото 1. Вынутый из петли Есенин в пятом номере гостиницы «Англетер», переложенный с пола на кушетку справа от входа. 28 декабря 1925 г. Фото М. Наппельбаума

Фото 2. Фотография номера № 5 гостиницы «Англетер», сделанные по просьбе С.А. Толстой в начале 1926 года. Кушетку менять не стали.

Фото 3. Верное расположение труб на снимке М. Наппельбаума в 5‑м номере Англетера — в левом от входа углу, напротив шкафа, закрывающего портьеру, закрывающую в свою очередь вход в смежный номер. При этом трубы расположены на той же стене, что и окно. И пальто с «мужским» расположением пуговиц.

Фото 4. В покойницкой Обуховской больницы. Вид с «правой стороны шеи».

Фото 5. В покойницкой Обуховской больницы. Вид слева. Странгуляционная полоса не так заметна, как справа. Очевидно, Василий Князев, написавший в Обуховском морге строки:

В маленькой мертвецкой, у окна
Золотая голова на плахе;
Полоса на шее не видна —
Только кровь чернеет на рубахе…
сидел как раз именно с этой стороны.
Примечательно, что именно эту строфу г‑н Прилепин отчего-то «забывает» упомянуть на 844–845 страницах своей странной книги.

Фото 6. Заметка в разделе «Литературная хроника» в номере газеты «День» от 29 октября 1915 г. о готовящейся публикации в «Страде» книги стихов «молодого поэта Сергея Елнина «Маковые побаски». Очевидная ошибка наборщика.
*Автору данной статьи, естественно, известны начавшиеся в 60‑х годах прошлого века и продолжающиеся до сего дня споры относительно истинности датировки Есениным своих ранних стихотворений. Стихотворения «Вот уж вечер. Роса…», «Там, где капустные грядки…», «Выткался на озере алый свет зари…», «Подражанье песне», «Дымом половодье…», «Сыплет черёмуха снегом…» сам Есенин при подготовке Собрания своих сочинений сознательно датировал 1910 годом, дав соответствующие указания своей жене Софье Толстой осенью 1925 года. Основной аргумент версии ложности данной датировки является «несопоставимость» по качеству доказанных по дате написания стихов и указанных Есениным произвольно, 15 лет спустя. На примере, может быть, самого знаменитого стихотворения «Выткался на озере алый свет зари», опубликованное в марте 1915 года в журнале «Млечный путь», доказывается, что коли ученик Спас-Клепиковской второклассной школы — Серёжа Есенин не читал его друзьям или учителю Е.М. Хитрову, не включал ни в какие письма, не записывал в тетрадку и никто из спас-клепиковского окружения о нём не вспоминал, то его в тот период не было вовсе, а появилось оно не раньше 1914 года. Но Есенин, если и менял датировку, то с 1912 на 1910 год. (Есенин С.А. Помета при составлении 1‑го тома Собрания стихотворений. Сентябрь 1925 г. // Есенин С.А. Полное собрание сочинений: В 7 т. — М.: Наука; Голос, 1995–2002. Т. 7. Кн. 2. Дополнение к 1–7 томам. Рукою Есенина. Деловые бумаги. Афиши и программы вечеров. — М.: Наука, 2000. — С. 154.). Это всё объясняет, а сдвиг на 2 года «моложе» принципиально в отношении к утверждениям г‑на Прилепина ничего не меняет.
Поэт указывает в автобиографии 1922 года: «Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16–17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в «Радунице»». Книжка хотя и вышла в январе 1916 года, но была составлена ещё в середине 1915 (по некоторым данным — даже 1914) года. Стихотворение «Выткался на озере алый свет зари» входит в раздел «Маковые побаски» и датировано там 1910 годом. А ведь «Маковые побаски» выходили или как минимум, готовились к выходу, отдельной книгой (издательство «Литературно-художественное общество «Страда») ещё в 1915 году и наверняка это стихотворение было и там. Известному хранителю памяти С. Есенина — создателю сайта www.esenin.ru С.И. Трифонову — удалось найти газету «День» от 29.10.1915 г. с заметкой в разделе «Литературная хроника» о готовящейся публикации в «Страде» книги стихов «молодого поэта Сергея Елнина «Маковые побаски». [курсив мой — Д.Д.]. Но это очевидная ошибка метранпажа — никаких упоминаний о поэте Сергее Елнине больше нигде не встречается. Так почему мы должны считать эту датировку неверной? Только потому, что издатель И. Евдокимов при подготовке Собрания сочинений в 1925 году вспоминал распри между Есениным и Толстой относительно того, кто из них что перепутал в датах? Или потому, что кому-то кажется, что стихотворение «Дымом половодье…» (где, кстати, тоже есть глухари — вернее, глухарка) хуже качеством, чем «Выткался на озере алый свет зари»?
В Полном собрании сочинений, выпущенным Институтом мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук, издательствами «Наука» и «Голос» под редакцией Ю.Л. Прокушева к 100-летию со дня рождения С.А. Есенина и носящем академический характер, под текстом каждого произведения проставлены даты. Редакция указала, что: «Авторские даты воспроизводятся без скобок. Если авторские даты отсутствуют или имеются документальные данные об их неточности, то под произведением в угловых скобках указываются редакционные даты. В каждом конкретном случае источники датировок приводятся в комментариях, там же, при необходимости, даётся обоснование датировок». Даты спорных стихов, данных самим автором, остались как есть, без редакционных вариантов. Потому что «документальных данных об их неточности» не обнаружено. Предлагаю читателю исходить из этого факта. А также из следующего замечания той же редакции:
«Всё вышеизложенное обязывает подходить к авторским датам Есенина с ясным пониманием того, что это не даты нотариальных актов, исторических документов или писем. Для Есенина в датах, которые он проставлял под произведениями, было гораздо более глубокое содержание, нежели формальная фиксация года и числа. В этих датах воплощалось понимание автором своего творческого пути, его свидетельство о времени возникновения и воплощения творческих замыслов, о времени создания произведений. Равно опасны как нигилистическое отношение к авторским датам, так и стремление их абсолютизировать. Разумеется, пока остаются неизвестными автографы или публикации стихотворений, относящиеся к тем же годам, которыми они помечены по прошествии ряда лет автором, трудно с абсолютной уверенностью утверждать, что они были написаны именно тогда и, главное, каков был их изначальный текст. Если между датой создания, указанной поэтом, и публикацией проходит значительное время, всегда есть возможность изменения текста, его совершенствования. Но это не означает, что в таких случаях можно отказаться от авторских дат [курсив мой — Д.Д.]. Если руководствоваться нередко раздающимися предложениями опираться при датировке стихов Есенина по преимуществу на сроки первых публикаций, то из первых ста стихотворений, вошедших в этот том, авторские даты сохранились бы лишь у полутора десятков. Остальные пришлось бы отбросить». И сноска: «К числу таких стихотворений будут относиться: «Вот уж вечер. Роса…», «Там, где капустные грядки…», «Поёт зима — аукает…», «Под венком лесной ромашки…», «Тёмна ноченька, не спится…», «Хороша была Танюша, краше не было в селе…», «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха…», «Подражанье песне», «Выткался на озере алый свет зари…», «Матушка в купальницу по лесу ходила…», «Зашумели над затоном тростники…», «Троицыно утро, утренний канон…», «Дымом половодье…», «Сыплет черёмуха снегом…», «Калики», «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Пойду в скуфье смиренным иноком…», «Шёл Господь пытать людей в любови…», «Осень», «Не ветры осыпают пущи…», «В хате», «По селу тропинкой кривенькой…», «Гой ты, Русь, моя родная…», «Я пастух, мои палаты…», «Сторона ль моя, сторонка…», «Сохнет стаявшая глина…», «Чую радуницу Божью…», «По дороге идут богомолки…», «Край ты мой заброшенный…», «Заглушила засуха засевки…», «Чёрная, потом пропахшая выть!..», «Топи да болота…», «Корова», «Табун», «Прощай, родная пуща…», «Покраснела рябина…», «Твой глас незримый, как дым в избе…», «Там, где вечно дремлет тайна…», «Тучи с ожерёба…», «То не тучи бродят за овином…», «Разбуди меня завтра рано…», «О муза, друг мой гибкий…», «Я покинул родимый дом…», «Хорошо под осеннюю свежесть…», «Песнь о собаке», «Закружилась листва золотая…», «Теперь любовь моя не та…» и т.д.»